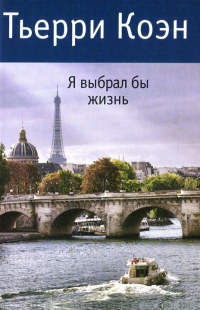Книга Полубрат - Ларс Соби Кристенсен
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Мне снится, что Господь меня забыл.
Я просыпаюсь, не поспав. Ботинок Фреда нет. Я вылез из кровати и прислонился к косяку. Мне хотелось знать, не подрос ли я за ночь, но нет, я перестал расти, перестал навсегда и думал теперь о том, чтобы удержать эту высоту, не горбиться, как Болетта, когда она возвращается из «Северного полюса» со спиной круглее, чем месяц над церковью на Майорстюен в октябре. Теперь я дрожал над своими кудрями, они увеличивали рост, буквально вытягивал рост за волосы, я первым на Фагерборге сделал африканское гнездо на голове, да к тому же белокурое, мне это казалось в порядке вещей, я ходил как белый пудель, но, скажем так, африканщина не прижилась. Зимой я носил огромную медвежью шапку, как русский пленный, я нашёл её в вещах Пра. Я пытался подрасти за счёт голодания и не пренебрегал двойными стельками и пробковыми каблуками. На гребне моды на бедность я круглый год таскал толстенные сапоги-говнодавы, моим звёздным часом стали платформы, это я говорю не для того, чтобы забежать вперёд, всякое событие будет рассказано в свой час, а просто чтобы моя жизнь склеилась в нужную, хотя и невообразимую картинку: мандоворот и платформы. В общем, трогательно, что в эти годы одиночества, в эпоху слонопотамов, я чувствовал себя в самом деле выше, хотя на платформах ходили вокруг все. Разрыв между нами оставался прежним, сантиметр в сантиметр. Но я как бы переполз нижнюю границу. Голова показалась над водой, я коротал время по преимуществу один, те, с кем я дружил и кого любил, уехали из Норвегии, и я шлёпал вперевалку по дальним боковым улочкам города в своих блестящих ботинках. Тем болезненнее ощущалось низвержение с высоты, когда платформы заклеймили как посмешище, судьба которому пылиться во мраке шкафа, дожидаясь карнавала или сбора вещей в пользу бедных. В Осло я последним отказался от платформ и теперь понимаю, что это и был мой золотой век, смутное время на излёте смены мод, я приобрёл власть и, кум королю, вышагивал на высоких каблуках, а вокруг уже шмыгали в старых сандаликах ни на чём. Но долго так продолжаться не могло. От престола я отрёкся. Пал. Короля платформ сместили, и я грезил о том, как однажды, проснувшись утром, Бог найдёт шестьдесят сантиметров, вспомнит, что забыл отдать их людям, и скажет так: тридцать из них числятся за линейкой Барнума. Отец однажды под настроение хлопнул меня по спине и сказал, чего, мол, упираться в эти сантиметры человеку, которого природа оснастила так щедро, как нас с тобой, так во всеуслышанье заявил сам осмотревший нильсеновское тело господин доктор с Большой земли. Спроси маму, сказал отец. Спрашивать я не стал, но одно время носился с идеей надставить позвоночник. В одной газетёнке я прочитал, что такие операции делают лишь в Америке. Одного американца норвежского происхождения они там удлинили на шесть сантиметров, вшив ему сочленение между бёдрами и коленными чашечками. Но ходить после этого он почти не мог и всё больше сидел, а какой тогда смысл? Да в довершение умер от апоплексического удара, нагнулся завязать шнурки и не разогнулся, писали в газете. Как потешался надо мной Фред, если у него было настроение! Однажды он на плечах отнёс меня через всю Киркевейен и Майорстюен до кинотеатра «Колизей». И я позволил ему это. Но так же легко он мог спустить меня с плеч и спросить: — Махнемся, Барнум? — Я немедленно пугался, не зная, чем именно он хочет меняться, но не успевал спросить, как его уже не было рядом. Если кому-то хотелось поострить, он мог ляпнуть, что я с трудом достаю до собственной головы. Потом шутник чуть не лопался от смеха. Или они заявляли, что от меня несёт мандой. Сам я смеялся редко. Однажды, между прочим, я встретил Джеймса Бонда, но и он мало чем мог мне помочь. На Шона Коннери, как его по-настоящему звали, я натолкнулся в табачной лавке на Фрогнервейен, куда пришёл за Coctail, которым, как известно, торговали из-под прилавка вместе с Weekend Sex, Pinup и прочей клубничкой, но я не смел отовариваться на родном Фагерборге, приходилось тащиться куда подальше. Чуть не час проторчал я на улице, пока собрался с духом и вошёл. Я думал, там никого, а тут раз — Джеймс Бонд, который к тому же тоже смутился. У него оказались жидкие волосы почти морковного цвета, которые он не расчёсывал месяца три самое малое. Он только что купил сигару и раскуривал её. Я чуть не дунул с порога назад, я решил, что у меня глюки, и перепугался до смерти. Но на самом деле в магазине на Фрогнервейен (Университетский городок, Осло, Норвегия, Европа, Земля) стоял Шон Коннери собственной персоной. Продавщица, наверняка его не признавшая, перекладывала шоколадки и спросила, что я хочу. Я неотрывно таращился на Джеймса Бонда. Наконец сигара зажглась. Он улыбнулся мне. Зубы у него тоже были неважнецкие. Продавщица повторила свой вопрос. Я не мог вымолвить ни слова. В памяти осталось страшное разочарование, что Бонд такая тютя. Когда он протянул руку погладить мои кудри, я пулей вылетел оттуда и бежал до дома не останавливаясь. Вечером, когда мы легли, я рассказал про встречу Фреду. — Видел сегодня Джеймса Бонда, — шепнул я. Он повернулся: — В кино ходил? — Нет. Я видел его на Фрогнервейен. — На Фрогнервейен, говоришь? — переспросил Фред неприятным тоном. Я кивнул. — У него жидкие волосы и плохие зубы, — сказал я. Фред помолчал минуту. — Не видел ты никакого Джеймса Бонда на Фрогнервейен, — отрезал он наконец — Видел, — возмутился я. — В табачной лавке. — А что ты делал в табачной лавке? — Я потупился. — Хотел купить Coctail, — шепнул я. Фред засмеялся и снова откинулся на кровати. — Спокойной ночи, Барнум. И не пыхти, когда будешь кончать. — Правда! — сказал я. — Что правда? — спросил Фред. — Я видел Джеймса Бонда. Вернее, Шона Коннери! — Фред вскочил, он кипел от ярости. — Заткнись немедленно, карлик! — Я видел его! Видел Джеймса Бонда! — крикнул я. Фред шагнул ближе и ударил меня в лицо, впечатав в подушку. И пока из носа шла кровь с тяжёлыми сгустками, я думал, что, когда я говорю правду, мне никто не верит, а верят, только если я вру. Начав, я не успокаиваюсь, пока не помяну всю обойму: Тулуз Лотрек, Джеймс Кагни, Эдвард Григ, этот вообще в силу совсем малого роста мог дотянуться до клавиш, только сидя на полном собрании творений Бетховена, и Микки Руни, вот кого нельзя забыть, несносного коротышку Микки Руни, который, однако, был женат пять раз на красавицах одна другой обольстительнее, мы все родня, кричу я, низкорослое племя, да, мы ближе всех к отстойнику. Тут Педер кладёт руку мне на плечо, умеряя мой пыл, женщины исподтишка переглядываются, а мужчины выходят на балкон подышать свежим воздухом. — В другой раз не поминай Грига, — шепчет Педер. Бывает, ненароком прислонясь к дверному косяку, то ли в ожидании кого-то, то ли скучая или нервничая, я совершенно непроизвольно вытягиваю ладонь, приставляю дощечкой к голове и нетерпеливо оборачиваюсь посмотреть, не подрос ли. Но на этом косяке нет никаких меток, он чист, и сравнить мне не с чем, поэтому я тихо прикрываю дверь и отхожу. Сколько тянется фантазия? Кто может во сне проговорить алфавит задом наперёд? Я делаю нарезку из своей, то есть нашей, жизни. Вот вломился в монтажную и раз-раз, чикаю серебряными ножницами. А потом своими маленькими ручками склеиваю фрагменты в другом порядке. Если я где приврал, простите, приходится уж капнуть толику лжи, чтобы крепче держалась склеенная из обломков линейка повествования. То, что я рассказываю, всё время оказывается короче того, что мы пережили, замечаю я. Таким образом я возвращаюсь к тому утру, когда я прислонился к косяку, опухший ещё со сна, в надежде увидеть плоды ночной прибавки в росте. Фредовых ботинок не было. Звенела тишина. Первые слова прадедушкиного письма Вам всем, здравствующим дома, шлю я… беззвучно крутились на языке. Это не флешбэк. Это ты сам, ты стоишь в комнате и мало-помалу начинаешь смутно вспоминать. Ты различаешь неясный звук у себя за спиной, обернувшись, видишь ребёнка, и этот ребёнок — ты.