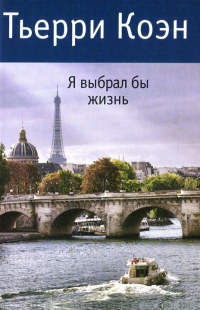Книга Полубрат - Ларс Соби Кристенсен
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Отец открыл чемоданчик, но загораживал его собой, мешая нам увидеть, что там внутри. Но вот он вытащил кругляшку с вспученной сердцевиной, похожую на засохшую коровью лепёшку, которую ему вполне могло прийти в голову захватить с собой из района Остфолд. Он держал её перед нами. Мы молчали. Мама отвела взгляд. Отец хлопал-хлопал глазами и как закричит: — Ну что вы молчите?! — Это что? — спросила мама. И тут отец громко засмеялся в третий раз за это утро своего возвращения домой. — Моя дражайшая, любимая и невежественная супруга! Что бы делала ты без меня, человека, несущего в этот дом любовь и просвещённость? Барнум, объясни своей матери, что за предмет я держу в руках. — Диск для метания, — прошептал я. — Браво, Барнум! Это самый что ни на есть настоящий диск! — Мама шумно выдохнула. — Диск? Это всё, с чем ты явился домой? — Отцов лоб перерезала глубокая морщина, она пролегла через весь широкий лоб, как дренажная канава для отвода испарины. Но и улыбка оставалась на лице, она словно приросла, всё в отце менялось не вдруг, тело не поспевало за головой, поэтому иногда он продолжал улыбаться уже разозлившись, а другой раз отвешивал оплеухи в прекрасном расположении духа. Он долго смотрел на маму. — Всё? Диск — это знак цивилизованности человечества. Первый предмет, который метали не для того, чтобы поразить или убить. — С этими словами он выпутался из пиджака, положил диск в больную руку и стал раскручиваться на ковре. — Тамара Пресс! — стонал отец. Мама закрыла лицо руками и придушенно кричала там внутри, а я сел, не в силах устоять на ногах. Я хохотал как заведённый, потому что отец был похож на одноногого слона в помраке, который пытается поймать свой хобот, и тут проснулась Болетта. Она встала с дивана, сдула с лица вуаль и показала на отца: — Чем занят этот мужчина? — Он собирается метнуть диск, — заверещал я. — В моём доме никто и ничего метать не будет. Понятно? — Отец сбавил обороты, он кружился медленнее и медленнее и наконец стал ровно, пот лился из ушей, как будто трубу в голове прорвало. — Ты права, крошка Болетта. Для этого спорта нужен простор. Подождём-ка мы до весны. — Он убрал диск в ящик комода. Потом обнял нас, втянув в круг и Болетту, и сжал его. — Как здорово возвращаться к вам домой! — сказал он. — Как чертовски здорово возвращаться к вам, домой…
Так мы и стояли, тесно прижавшись, одной семьёй, в пятницу в октябре. И вот тогда отец шепнул мне слова, которые один я расслышал: — Барнум, ври и сей сомнения. — Зачем? — удивился я. — Потому что тебя всё равно никто всерьёз не принимает. — Отец засмеялся. — Тем более что правда скучна, — добавил он, а я в эту секунду встретил взгляд Фреда, он глядел на нас из тени между дверью и комодом. Сколько времени он простоял так? Не знаю. Может, он был здесь всё время. А теперь улыбнулся. Он улыбнулся, и мне захотелось протянуть к нему руку. Но он помотал головой, закрыл глаза и отклонился в темноту. И мне подумалось: больше нас нет. Теперь мы тоже сгинем.
(родинка)
Я играл с мыслями. В основном с ними. Больше играть мне было не с кем. Мысли, которыми я забавлял себя, касались катастроф, болезней, смерти и других непоправимых несчастий. Они очень поддерживали меня. Ведь утешительно знать, что жизнь могла сложиться и хуже, неизмеримо хуже. Если б в нашей квартире начался, скажем, пожар, ну, например, в рождественскую ночь, ёлка занялась бы как спичка и рухнула бы на подарки, и меня, единственного, оставшегося в живых, нашли бы среди обгоревших останков мамы, Фреда и Болетты, а потом я ещё три месяца дышал бы через кислородную маску и лишь чудом восемнадцать хирургов сумели бы вырвать из лап смерти то, что от меня осталось, — вот тогда бы все кругом запели по-другому. Тогда б они поняли!!! Моих мучителей загрызла бы совесть, они на коленях приползли бы вымаливать прощение, и вот я, снедаемый болью, но по-прежнему великодушный, дарую им его, и обо мне взахлёб пишут газеты, сочиняют книги, ставят оперы и называют моим именем пароходы. Потому что все мои мечты сводились единственно к этому, к переменам: жизнь закладывает крутой вираж, и всё идёт совсем не так, как шло раньше. Я представлял себе, как хожу с обожжённым лицом, в бинтах, одинокий и прославленный. Так я грезил. Потому что по ходу игры мысли превращались в грёзы, а грезил я наяву, когда не спал, но ночью — никогда, ночью я не отваживался, зато днём я часами мог ходить, погружённый в эти фантазии, пока в изнеможении не опускался где-нибудь посидеть и выплакаться, часто на камне на вершине Стенспарка. Сила этих фантазий загоняла меня в странное безумие, я заливался слезами, я рыдал, грубая, насильственная драматургия моих грёз растравляла душу. Ради фантазий я себя не щадил. Воображение рисовало картину (болезни, неизлечимой, причиняющей нечеловеческие страдания, изматывающей, я на пороге смерти. И вот ко мне устремляются они, чтобы помириться, извиниться, подружиться, но — время вышло, я умираю и лишь напоследок выпрастываю руку, словно отпуская грехи всем, кто стоит в этот час у моего одра. Однако дальше этого я ни в мечтах, ни в мыслях не продвигался. К моему раздражению. У меня не получалось представить себя мёртвым, нет, то есть представить я мог, но никакой радости, ни на гран, я при этом не испытывал. Видение меня-покойника (в скромном ли гробу в крематории Вестре или в церкви Майорстюен), неизменно мимолётное, не удавалось зафиксировать, оно вело себя по собственному разумению и мгновенно пропадало, уходило, словно вода в песок. Фантазии на тему собственной смерти мне не давались, и всё. Как если бы я в глубине души отказывался в неё верить. Так что я предпочитал сюжеты про несчастья и катастрофы, в которых мне чудом, но удавалось выжить и стать центром всеобщего восторженного и сочувственного внимания. Я грезил, как сам, вместо Фреда, сижу на тротуаре неподалёку от погибшей под колёсами грузовика Пра, только, в отличие от Фреда, на мне не было живого места, поскольку я пытался спасти её, я сделал всё, что в человеческих силах, даже рискнул жизнью, но — тщетно, моим усилиям вопреки Пра умерла, её смерть делает мой горький жребий бесконечно жалким, и я как куль сползаю в водосточную канаву. У меня сломана нога, из глубокой раны на лбу хлещет кровь, и наружу выдавливается краешек мозга, похожий на тонкий картофельный оладушек, и все хлопочут надо мной, окружают почётом, я герой, я не жалел своей жизни ради чужой и тем самым проявил себя благородным человеком, настоящим. Меня точил, правда, страх, не есть ли фантазии уже грех. Пусть они удерживаются под спудом. Равноценна ли мысль злодеянию, если она живёт в голове, в дальнем закоулке, в тишине, невостребованная и не высказанная вслух? Так я размышлял. И доразмышлялся. Настал день, когда мне пришлось вытащить мысли из-под спуда. И поверить фантазии жизнью, которая оказалась чудовищно мала даже для меня.
Она училась в параллельном классе. Я долго наблюдал за тем, как она, по обыкновению, стоит во дворе под навесом, всегда одна, всегда отвернувшись. И наконец счёл её такой же одинокой, как я сам. Раскусить-то я её раскусил, но это ни на шаг не приблизило меня к ней. Да и что я себе вообразил? Что у Барнума появится подружка? Звучит дико, но именно это я втемяшил себе в голову: у меня заведётся подружка, а станет ей та, что вечно стоит в одиночестве под навесом, отвернувшись. У неё были светлые короткие волосы и родинка на левой щеке под самым глазом. В особенности родинка вдохновляла меня, изъян сокращал пропасть между мной и суженой, давал мне надежду и мужество, коли на то пошло, родинка и привлекла меня в ней, её клеймо, а моим был малый рост, недостаток сантиметров, тоже поневоле бросающийся в глаза каждому.