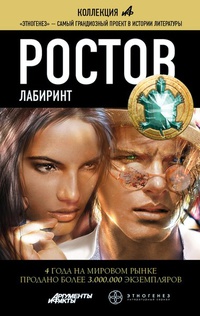Книга Бегущие по мирам - Наталья Колпакова
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– И?..
– И оставила! В покое! В полном! В больнице он, дурень старый, в реанимации. Врачи говорят, в кому впал. В глубокую! – Дама хрюкнула и заревела, как баба.
– Ай-ай-ай, как нехорошо вышло.
– Миленький, голубчик, ты уж расколдуй его обратно, зарплата у него, дурака, хорошая, да и люблю я его, черта лысого, муж он мне...
– Сейчас-сейчас, – испуганно залепетал ясновидящий и посвященный, узрев прорезавшимся внутренним оком судебное разбирательство.
«Мать вашу, что за лабуда?» – лихорадочно размышлял Чесоткин, пока Хрисандр размахивал руками над магическим шаром. Шар светился мистическим светом, медленно вертелся вокруг своей оси и парил над подставкой – все это, понял вдруг Чесоткин, при выдернутой из розетки вилке. Поняв это, маг жалобно застонал и рухнул без сознания.
Тем временем Ванька, вырвавшийся из семейных уз, уже мчался к дереву желаний. Не обманул Костик. Дерево не подвело, взаправду волшебным оказалось. Правда, недогадливым, но тут уж Ванька сам сплоховал, плохо объяснил, чего хочет.
Утро началось обычно: в полседьмого, со Светкиного голодного испуганного рева. Ванька почти и не разочаровался. В самом деле, глупо было надеяться. Что он, детсадовец – в сказочки верить? Стал дальше спать. Ну потом проснулся, утащил чего-то такого из холодильника пожрать, во двор выскочил. А чего, сегодня суббота, у отца выходной. Не маленькие, сами справятся! Ждал Костика, но друг не вышел. На крик Ванькин выглянул из-за шторы – лицо дурное, счастливое, будто Новый год на дворе, – помахал и показывает Ваньке, чтобы тот, значит, шел пока. Ванька пошел, слегка обиженный, оглянулся – а там, в окне, папашка с Костиком, и, главное, ласково так за плечо его обнимает, будто и правда отец, а не так, недоразумение.
Ванька удивился ужасно. Послонялся по двору, но одному было скучно и не тянуло как-то на обычные развлечения. Вернулся домой. Мать как раз Светку кормила. Глянула на него недовольно, но без сердца, а так, по привычке. Промолчала. А вот минут через тридцать, когда Светка нахлебалась молочной смеси и справила свои младенческие обязанности в утренний, отцом ставленный памперс, мать как заорет! Стоит над распеленатой Светкой, пялится ей на середину и завывает сиреной. Ванька подкрался поближе. Вот это да! Светка, озадаченная материнским воем, лежит-пялится в голом виде на пеленальной клеенке: голова ее, даже дерматит на пузе ее, а вот ниже дерматита – штучка эта самая, ну вы понимаете. Тут Ваньку, конечно, отогнали подзатыльником, но самое главное он видел. Остался, в целом, доволен. Но как говаривает бабушка, полное счастье редко достается нам в удел. Он не понимал, что не устраивает мать, но лично его огорчил возраст нового брата. Он вообще-то заказывал товарища. А не новую версию никчемного младенца, разве что писающегося не лужицей, а струей. Тот как раз выдал струю, и какую! Мать бросила орать и схватилась за телефон. Пока она дозванивалась в «скорую», а отец, как обычно, метался веником по комнате и причитал (отец у Ваньки вообще хороший, только бесполезный), сам Ванька благополучно улизнул. И прямиком к дереву, желание перезагадывать. Теперь он не сомневался, что возвращаться будет уже в нормальную семью. И никакая «скорая» ее не испортит!
Если потомственный ясновидец Хрисандр Чесоткин думал, что жизнь – порядочная сука, тогда как сам он сама скромность, ничего непосильного от этой суки не требующая, то потомственный алкаш-интеллектуал Анчоус ничего такого о жизни не думал. Строго говоря, он вообще не думал о жизни. Да и, признаться, не только о ней. Он и помнить-то почти ничего уже не помнил. Так, отдельные штрихи к портрету: кликуха, излюбленные места ночлега, совсем уж разрозненные воспоминания, стыдливо поблескивающие, будто осколки пивной бутылки, в грязи и прозе жизни. Потомственным интеллектуалом он был в силу происхождения от деда-метростроевца, отца – токаря немаленького разряда и матери – давно порвавшей с родным селом учительницы в вечерней школе. Потомственным алкашом – в силу того же наследия: дед-метростроевец, отец, лихо спившийся на ранней своей пенсии по плоскостопию и тромбофлебиту. Освобожденный родовым плоскостопием от армии, Анчоус поначалу угодил в родовую же профуру, но покинул ее, не успев огрубеть душой, ибо избрал себе поэтическую стезю. Дальнейшее помнилось смутно. Вот, правда, брат у него был – младшенький, змееныш коварный. Брат Анчоуса оказался подонком и низменным рвачом, и Анчоус уже сколько-то времени не делил с ним родного крова – нет, не из-за подлости означенного рвача и трезвенника, сменившего замок, а исключительно по собственному выбору. Вольный воздух замкадовских переулков точнее отвечал тонкой биохимии организма Анчоуса, всю жизнь шедшего против системы.
Сперва он нашел приют в отличном подвале. В глубоких местах подвала плескалось реликтовое озеро кипятка, и климат был как в экваториальном лесу, душный и влажный от испарений. Однако жильцы дома – тоже, однозначно, рвачи и подлюки бездуховные – вдруг организовали ТСЖ. С территории не сразу, но исчезли знакомые Анчоусу отрешенные лица жэковских работников, подвальное озеро пересохло, а дверь в подвал безнадежно запер мудреный замок. Вследствие этой катастрофы Анчоусу пришлось искать себе ночлега в чужих негостеприимных дворах. Несколько раз его истинно даосское отношение к жизни было поколеблено грубостью окружающей иллюзорной реальности. И даже вовсе не иллюзорными физическими воздействиями легкой степени тяжести.
Но тому, кто постиг философию жизни, сама жизнь помогает оставаться философом! Или, говоря попросту, нет худа без добра. Анчоус слишком отрешился от людского общества, заанахоретствовался в комфорте своего подвала. Странствия же свели его с весьма достойными людьми, людьми с биографией. Помнить они ее не особенно помнили, но багаж интеллигентности сказывался в их манерах и развлечениях. Благодаря этой встрече Анчоусу уже не приходилось думать о ночлеге.
Правда, и на солнце бывают пятна. Вот на днях: пустячная размолвка вбила клин между друзьями, развела их на время по разным дворам. Но интеллигентные люди отходчивы. Уже почти забылась, ушла в область преданий та бесприютная ночь за гаражами, где разочарованный Анчоус прикорнул прямо на траве под деревцем, таким же одиноким, как он сам. Он был отвержен и покинут. Заветная бутыль оставалась за пазухой, но она была пуста. А ведь он не просил многого. Ну пусть не целая бутыль – пусть! Но хотя бы половина! Кошмарно было засыпать в этой пустой, ледяной вселенной.
Кошмарным оказалось и пробуждение. Он разлепил веки. О ужас, бесчисленные детские ладошки (одни только ладошки, ничего больше!) жадно, отталкивая друг друга, тянулись к нему сверху. Он было решил – белая. Но как допиться до белочки, если пить нечего! Проморгавшись, Анчоус опознал в ладонях листья, осторожно выполз из-под кошмарного дерева и дал деру.
Друзья встретили его с распростертыми объятиями. О ссоре, как принято у людей приличных, не говорили, но в отношении товарищей к Анчоусу, подчеркнуто заботливом, ощущался гнет вины. Ему предложена была едва надкуренная и совершенно неподмокшая сигарета, ему достался глоток с донышка оставленной каким-то добрым человеком пивной бутылки.
Но что такое жалкие опивки с донышек? Анчоусу, понятно, хотелось еще. Так хотелось, что он привычным движением сунул руку за пазуху и извлек плоскую посудину, заполненную до половины. Весь он запрокинулся и превратился в распахнутый рот.