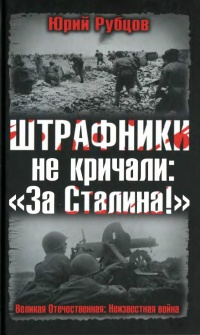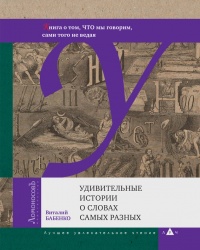Книга Стежки-дорожки. Литературные нравы недалекого прошлого - Геннадий Красухин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
* * *
Но и меня изюмовское правление заставило задуматься о будущем.
Нет, пожалуй, здесь я не совсем точен: Изюмов выступил катализатором процесса. А задумался я о будущем, когда начал работать над пушкинским «Евгением Онегиным».
Кем до сих пор я был? Фельетонщиком, высмеивающим дрянных поэтов, их дрянные книжки. Ну и чего я этим добивался? Скверных поэтов из Союза писателей не гнали, их книги продолжали выходить.
Конечно, писал я и о хороших поэтах, которых любил, об Олеге Чухонцеве, об Александре Кушнере. Кроме того, изредка я печатал проблемные статьи о современной поэзии. Но в чём заключалась тогда её главная проблема? В том, что хорошим поэтам было напечататься намного труднее, чем посредственным, и в том, что хороших печаталось в то время неизмеримо меньше плохих.
Разумеется, я огрубляю. Проблем тогда, по которым спорили, было немало. Например, о традиции и новаторстве.
И я принимал участие в обсуждении этих проблем, удивлялся, что некоторые критики понимают традицию как подражание предшественнику, доказывал, что традиция – это спор ученика с учителем, плодотворный для поэзии, продвигающий её вперёд. И Владимир Николаевич Турбин на обсуждении проблем современной поэзии горячо меня в этом поддержал.
Но, задумавшись о том, что ждёт меня в обозримом будущем, я пришёл к горькому выводу: ничего хорошего! Я уже понял, как превратно понимают у нас само понятие критики. Она в представлении многих – род рекламы, демонстрирующей ещё и субъективный вкус её изготовителя. «Главное, – говорил мне поэт Евгений Винокуров, – это побольше цитировать. Цитаты и сами за себя скажут и о твоём интеллекте дадут понятие». Я не мог с этим согласиться.
Но в то же время я не считаю, что критика – это критики, как полагает Сергей Чупринин, так и назвавший свою книгу: «Критика – это критики». Он имеет в виду право каждого критика на самовыражение. Однако в этом случае получается, что критик ради приятного дела – раскрыть глубины собственного духа – использует чужой текст для этого самого дела. А мне кажется, что важнее всего в критической статье раскрыть внутренний мир писателя, поняв при этом, что заставило его взяться за перо. Ясно, что у каждого человека свой стиль. Как он слышит, так и пишет, по словам Окуджавы. Я против усреднённого языка, литературоведческой казёнщины. Но задача перед критиком стоит чёткая: не о себе, не о себе, не о себе… Если твоё самовыражение каким-то образом (закон редукции) поможет выразить глубинный замысел автора, этим можно восхищаться. Но, как правило, слаб человек, увлёкшись самовыражением, забывает об основной задаче. И как бы стиль его ни был хорош и оригинален, разбираемому тексту это только повредит. Это и есть использование чужого ради собственной художественной амбиции. Но тогда не лучше ли взяться самому за прозу или эссеистику?
Когдa-то я опубликовал в «Вопросах литературы» статью «Великий спор», где заново обосновал осмеянную многими мысль Тынянова, что Тютчев не может быть причисленным к пушкинской школе и что его поэзия в своей основе имеет очень мало общего с пушкинской. Перечитав её недавно, я нахожу в ней следы нелюбимого мною теперь эссеизма.
Эссе – это не исследование, а мысли по поводу или на полях произведения.
Словом, от критики в том понимании, о котором я сказал, я решил потихоньку уходить.
Читая в очередной раз «Евгения Онегина», я вдруг подметил в этом романе то, чего раньше не замечал. И мне захотелось об этом написать.
Но, углубляясь в структуру романа, я обнаружил то, что, по-моему, отличает и другие пушкинские вещи, – многосложность жанра произведения, понял, что проблема жанра – центральная в любом исследовании. Не определив с максимальной полнотой и точностью, в каком жанре выступил в данном случае писатель, ты рискуешь сильно ошибиться, разбирая его творение.
Работу об «Онегине» я писал невероятно долго – около двух лет. Я её не только писал, но как бы рос вместе с ней. Высокопарней было бы сказать: совершенствовался, но я о себе так не скажу, потому что занимался элементарным самообразованием – знания, полученные в университете, были поверхностными. Вот и приходилось открывать для себя законы литературы. А они оказались такими же объективно существующими, как законы математики или физики. Для меня это стало откровением.
И ещё об одном.
Я и прежде задумывался над вопросами веры, не был убеждённым атеистом. Меня всегда волновало то обстоятельство, что почти все великие художники прошлого были верующими людьми. Я обожал Пушкина, Гоголя, поражаясь их глубокому проникновению в библейские символы. Нечего говорить о том, что я вырос в глубоко атеистической среде, где к верующим в лучшем случае относились снисходительно.
Однажды сидел я дома за машинкой, размышляя над «Евгением Онегиным». Полная тишина. У меня выходной день, в квартире я один. И вдруг я услышал за спиной чьё-то лёгкое дыхание. Что такое? Я обернулся. Ну, конечно, никого. Наверное, показалось – и я снова углубился в «Евгения Онегина». И вновь дыхание, лёгкое движение воздуха. Я понимаю, нет смысла оглядываться: сзади никого нет! И в то же время я продолжаю слышать ровное спокойное дыхание, как если бы кто-то склонился надо мной. И какой-то частью своего существа я осознаю, что я сейчас не один. Кто-то, невероятно ко мне расположенный, вселяет в меня ощущение радостной приподнятости, всё увеличивающейся. Этого не передать словами, они грубоваты для того, чтобы выразить то странное состояние души. Его не с чем сравнить, как если бы оно пришло из другого мира. И я произнёс то, что мне прежде было чуждо, при всём моём уважении к вере:
– Верую, Господи!
Постепенно это невыразимое состояние развеялось. Но воспоминание об этом навсегда вошло в мою жизнь, медленно меняя её.
Закончив работу над «Евгением Онегиным», я немедленно взялся за текст «Медного Всадника».
Меня охватило недоумение: какой текст мы читаем?
Известно, что царь, которому в 1833 году Пушкин отдал свою «петербургскую повесть» на цензуру, исчеркал «Медного Всадника» и потребовал переделок, затрагивающих самый смысл произведения. «Это делает мне существенную разницу», – записал Пушкин в дневнике. И положил рукопись в стол.
Он вытащил её оттуда через три года, пытался что-то в ней выправить и не смог. Правка осталась незавершённой.
А что такое незавершённая правка? Это всего только указание на путь, которым пытался двигаться художник. Но поскольку этот путь до конца он не прошёл, постольку мы не можем судить о главном – о его замысле, который он хотел и не смог или не успел воплотить. Поэтому, как бы прекрасно ни звучали какие бы то ни было стихи в подобной рукописи, их место не в основном тексте, с которым будет иметь дело массовый читатель, а в вариантах – для специалистов. Ведь даже если Пушкин, правя рукопись, захотел в ней что-то улучшить, мы не можем определить, что именно, и поэтому станем опираться на свои субъективные ощущения. У великого художника случайностей не бывает. Любой правленный им стих связан с общим замыслом. А незавершённая правка, как я уже сказал, понятия об этом замысле не даёт.