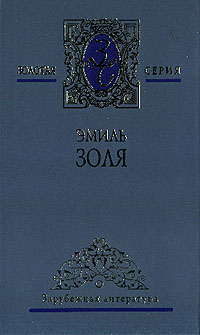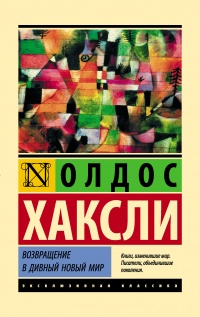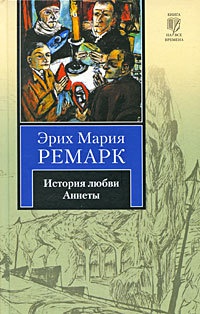Книга Шесть ночей на Акрополе - Георгос Сеферис
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В руке у Лалы были две красные гвоздики.
— Я пришла ради них. Предпочла принести их ей сюда: она не любила кладбищ. Возьми одну, так будет лучше.
Они прошли вместе к Кариатидам. Стратис остановился на том же месте и тем же движением руки бросил цветок. Лала последовала его примеру. В третий раз бесшумно упала гвоздика, описав темную траекторию.
Он почувствовал, как рука любимой сжимает ему сердце.
— Как ты это сказала, Лала? «Значение видно значительно позже». Когда позже? Все, что мы делаем для мертвых — наша печаль, наши слезы, наше благоговение — все это так, будто они должны возвратиться. Конца, действительно конца, не в силах постигнуть разум человеческий. Затем мы отправляемся к ним, а другие, там наверху, продолжают то же.
Его взяла тоска, и он прошептал:
— Я стану спутником твоим,
пойду и я с тобою,
Душа с душою — не тела,
что будут под землею.
— Наверное, это ты и сделал у Сожженной Скалы, — задумчиво сказала Лала. — Сам сочинил?
— Нет. Это «Эротокритос».[168]
— У меня была кормилица, которая читала его. Я даже представить себе не могла.
Возвращаясь, они остановились у Парфенона.
— При таком освещении эти мраморы напоминают стены клиники, — сказал Стратис. — Пошли.
Хлепурас спал. Стратис разбудил его.
— Сегодня у Священной скалы клиентов не найдешь, — пробормотал Хлепурас. — Иногда народу бывает столько, что кажется, будто это крестный ход.
— Ах! Да это же тот самый водитель, который вез нас из Пирея, — сказала Лала. — Отвезу тебя домой, а затем поеду в Кефалари. Провожать меня не нужно.
Хлепурас отпустил тормоза. Когда они поворачивали на улицу Акадимиас, Лала спросила:
— В борделе все платят?
— Да, так принято… Однако сегодня женщина, которую я хотел, оказалась между убитым и убийцей.
— Так ты в бордель ходил или искал какую-то определенную женщину?
— Определенную женщину. Я познакомился с ней в минувшем мае, в ту ночь, когда Саломея пришла уже к свисткам. Помнишь? Она, видишь ли, тоже в определенном роде вступила в труппу. Ее зовут Домна.
— Странное имя.
Они умолкли. Разум Стратиса пребывал в чутком сне. Обрывки старых воспоминаний о чужбине становились пеной и растворялись. Он пробормотал:
— На мосту стояла старуха. Когда я проходил, она неизменно была там. В руке у нее был букет фиалок. Неизменно тот же самый. В голосе ее была старая, истрепавшаяся жалоба. Всякий раз, видя ее, я вспоминал беднягу Викентия: «Лучше проститутка за грош, чем одиночество…»
— Кто такой этот Викентий? — спросила Лала.
— Великий художник.[169]
Хлепурас уже подъехал к Музею и приготовился свернуть направо. Лала наклонилась к нему:
— Поезжай по улице Александрас и — в Кефалари, туда, куда ты возил нас утром.
— Вернетесь потом? — спросил Хлепурас.
— Нет, — решительно ответила Лала.
Хлепурас переключил счетчик.[170]Раздался металлический щелчок. Стратис приподнялся. Лала сказала ему столь же решительно:
— Скажешь друзьям, что был дома у Домны. Впрочем, сегодня ночью я дома не останусь. Будешь спать в моей комнате.
СТРАТИС:
Воскресенье, сентябрь
Пытаюсь описать вчерашнее, но как рассказать об этом? Теперь я уже не способен отличить тени от людей. В городе, куда мы прибыли, нужно принять и это: может быть, это — единственно верный способ.
Когда Хлепурас высадил нас, Лала взяла меня за руку. Я безвольно повиновался ей. Она открыла дверь дома, зажгла свет и провела меня наверх в свою комнату. Бережно помогла мне лечь. Я смутно видел, как она расстилает простыни, чтобы укрыть меня. Она протерла мне цветочной эссенцией лицо и шею. Все было так, будто я был связан веревками, которые развязывали в тот час. Мне показалось, что вместе с благоуханием ночи снаружи входит легкий дым ладана. Я почувствовал, что медленно падаю, что меня приняли в объятия имевшие вид тела Лалы, и Бильо тоже была там, и я таял вместе с ней, опускаясь все ниже, и больше ничего.
Проснулся я поздно утром. Одежда моя была уложена на стуле. На импровизированном столе было все, что необходимо для умывания. Я огляделся. Стены были белыми. Только зеркало — в рамке из темного золота, а над кроватью — триптих: Рождество, Распятие и Воскресение. Свеча еще горела. Почти гневно толкнул я ставни. Внешний мир показался какой-то диковинной вещью, которая оставлена незнакомцем и вызывает опасные подозрения.
Я сошел вниз. В доме было пусто и свежо. В столовой — кофе, сыр, хлеб и стакан охлажденной воды. Я поел и вышел. В саду под ореховым деревом стояла Лала.
— Доброе утро, — сказал я. — Как спала?
— Я пошла и продалась за грош. Вот посмотри…
Она раскрыла ладонь и показала мне монету или нечто показавшееся мне монетой.
— … Теперь можешь звать меня и Домной… Разве что, если предпочитаешь…
Она закрыла глаза. Фраза ее осталась незавершенной. В моем полуоцепеневшем мозгу блеснула мысль, что все это соответствует природе вещей, подобно мощному стволу дерева, напрочь укоренившемуся в земле, подобно сиянию ее лица.
— Если жара тебя не беспокоит, давай пройдемся, — сказала она.
Мы шли, не проронив ни слова. Я следовал за ней. Мы миновали Коккинарас и пошли по уединенным тропам. Погруженные в свет сосны казались — каждая в точке, в которой иссякает терпение, — готовыми к взрыву чувств. Скользя по хвое, мы поднялись на холм. Противоположный склон был гол — каменоломни.
— Еще держишься? — услыхал я ее вопрос.
— Да, — ответил я.
Голова у меня шла кругом. Я уже решил, что все равно, где упасть — здесь или дальше. Я смотрел на ее ноги: они ступали, покрытые пылью. Неумолимый ритм, подобный движению солнца и других светил. Окружающий пейзаж был похож на скалы на иконе, висевшей на выбеленной стене в ее комнате. Внизу, в яме блестели, слепя глаза, осколки мрамора. Толстая плита была оставлена посредине, словно ожидая, когда же ее поднимут. Воздух дрожал над этим раскаленным горнилом. Она прошла прямо вниз и только тогда обернулась и посмотрела мне прямо в глаза.