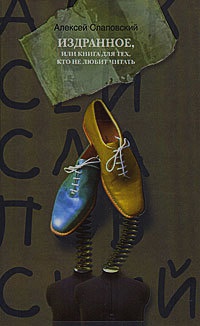Книга Страна изобилия - Фрэнсис Спаффорд
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— А вы не знаете, — с излишним энтузиазмом начал Курочкин, — не можете нам сказать, товарищи никак пока… э-э… не сигнализировали, какое их мнение?
— Ой, да хватит тебе уже, — резко оборвал кто-то другой, и в машине воцарилось неприятное молчание.
Автоколонна неслась через светофоры, словно не замечая их. Володя отвернулся от зачумленных и уставился в окно, все еще тяжело дыша, пытаясь стряхнуть прикосновение кошмара, который ощутил на крыше.
Дерьмо, а не город. Зачем он вообще здесь? Он и сам не понимал. Два года назад они с Галиной уже нацелились на жизнь в Москве: контакты установлены, долги розданы, нужные знакомства найдены — все сделано для того, чтобы он мог начать свою партийную карьеру со столичным размахом, чтобы они могли сыграть свадьбу. Он по-прежнему скучал по ней. Раньше она казалась такой прямой, невозмутимой. А тут вдруг сделалась замкнутой, смущенной, уклончивой, а из-за чего, не говорила. Она не говорила, а он не мог понять. И все- таки что-то произошло; что-то настолько плохое — теперь это стало ясно, — что бросило тень на ее надежность, а тем самым и на его решение соединить с ней жизнь. А двери, которые он так усердно открывал, все равно, как выяснилось, оставались закрыты. Если он решил стать партийным работником, теперь для него уже не стоял вопрос о легком пути наверх в министерстве или даже о том, чтобы послужить в нижних эшелонах какого-нибудь удобно расположенного райкома или горкома в Московской области. Дорога ему была обратно в провинцию — обратно на чертов юг, “вы ведь эти края знаете”, всего пара сотен километров от места, где он вырос, и все надо начинать сначала, снова завоевывать все то, что столь загадочным образом оказалось потеряно.
На юг, к пыльным деревьям, к общаге, к чемоданной жизни и постоянному легкому чувству голода. Даже с его талонами в спецраспределитель он нередко питался анонимными рыбными консервами, которые после работы выковыривал прямо из банки, не разогрев. Ремень он теперь застегивал на две дырки туже, чем прошлой осенью. Правда ли в городе дела обстоят так уж плохо, он не знал. Ощущение было такое, что да. В системе снабжения он по какому-то идиотскому решению — на основании того, что тут есть Политехнический институт, — значился как университетский, считалось, что калории в таких местах требуются на то, чтобы держать в руках карандаши и вытирать доски; на деле же теперь здесь, в промышленной зоне на окраине, у железной дороги, жило и работало 40 тысяч человек, и все до последней крошки было поделено между студентами и местными рабочими. Про белый хлеб давно забыли, за молоком стояли огромные очереди. Колбаса появлялась так же редко, как кометы в небе. Городом правили гороховый суп и каша, обычно подаваемые в недомытых тарелках. Весь этот последний год он целыми днями пытался вдохновить народ на соревнование с ростовским “Россельмашем” по экономии средств. Графики производительности у него в портфеле блестели вдоль сгибов — так часто их разворачивали и сворачивали. Однако рабочие не проявляли ни искры энтузиазма по поводу обязательств, которые за них давали профсоюз, руководство и комсомольские организации. В ответ на тебя смотрели одни лишь грубые лица, в которых тяжело отпечатались невысказанные порывы. Другим активистам удавалось хотя бы вызвать хохот, подкинув нужную шутку, но у него таланта к этому не было. Не понимал он, как это делается, как часто ни наблюдал за этой особой ловкостью рук, этим трюком фокусника, которому удавалось вызвать расположение толпы, одновременно залезая людям в карманы. Наверное, секрет был в том, чтобы ожидать, что ты им понравишься: в своем костюме, со своим графиком, когда цеховой мастер объявит перерыв и ты вскочишь на стул или ящик. Он намеревался присоединиться к кругу руководителей, он никогда толком не переставал размышлять о своих отношениях с теми, другими, которыми, как предполагалось, ему следовало уметь управлять, которых следовало умасливать. Теоретически говоря, они были телом, а он должен был представлять собой совесть, быть агитатором, однако, на его взгляд, все было не так. Почти каждый вечер он ходил гулять. Обычно он начинал думать о чем-нибудь в парке, чувствуя рыбный вкус во рту, а потом обнаруживал, что ноги опять тоскливо принесли его на станцию. Жаркое небо серого цвета, задние огни отходящих поездов, исчезающие вдали, как монетки, падающие на дно ручья. Не помешало бы немножко музыки. Но тут если что-то и играли, то только бравурные марши.
Машины сильно подпрыгивали на рессорах, когда колонна неслась, минуя поднятый барьер, ко входу в казармы. Чтобы обеспечить безопасность, высыпавшиеся из головной машины охранники выстроились двойной цепью во дворе, куда по данному им знаку двинулись двое шишек из следующей, за ними суетливо последовали референты с сотрудниками, а последними вылезли из своей сами опозоренные. Володя шел впереди, стараясь двигаться как можно быстрее, — все торопились по коридору обратно в зал заседаний, где начался этот день; его место было у дальней стены, позади стола с телефонами, там ему полагалось стоять, и туда он хотел вернуться.
Однако последовавший за ним, к его ужасу, Курочкин пронесся мимо, отчаянно потея от переполняющего его дружелюбия, и стал приставать к людям из Президиума. Они только что сели: Микоян, как всегда, выглядел щеголевато, Козлов со своей прилизанной волной седых волос источал жар, идущий от его розовых щек.
— Товарищи! — начал Курочкин. — Разрешите мне внести предложение…
— Это еще кто такой? — спросил Козлов. — Тоже из этих идиотов? — Референт зашептал ему в ухо. — А, так это сам директор. Местная новочеркасская Мария-Антуанетта. Что- то ты, Мария, выглядишь не особо, не то что на портрете.
— Не понял, — Курочкин растянул щеки в улыбке, на которую было больно смотреть; он словно надеялся, что вот-вот прозвучит шутка, над которой сможет посмеяться и он.
— Не понял? Это не ты им вчера сказал, чтобы пирожные ели? Вышел и думает: так, толпа недовольна, как же мне еще больше положение ухудшить, что же мне сделать, чтобы все окончательно пошло на хуй, когда оно и так уже само идет? А, знаю: давай-ка я им скажу вдобавок что-нибудь пообидней.
Скажу что-нибудь такое, на хуй, чтобы еще соли на раны подсыпать. Это же ты — что, разве нет? Не ты, скажешь?
Да, это был он. Вспоминая слова, вылетевшие изо рта у Курочкина, Володя до сих пор не мог в это поверить. Дело было вчерашним утром, в начале девятого, пара сотен рабочих с первой смены вышли из литейного цеха и собрались на площади перед зданием заводоуправления, чтобы пожаловаться на только что объявленное повышение цен. Ясно было, что хорошего ждать не приходится; толпа уже два раза проигнорировала призывы вернуться к работе, а по мере того, как разносились новости, на площадь потянулись и рабочие из других цехов. Однако полностью из-под контроля ситуация пока не вышла. Володя с надежными представителями заводской парторганизации и сотрудниками милиции уже были в толпе, пытаясь успокоить народ — постепенно, беседуя с одной кучкой собравшихся за другой, — пытаясь добиться, чтобы крики улеглись и снова перешли в обсуждение, и тем самым восстановить послушание. Причем настроение было возбужденное и недовольное, и только — толпа еще не успела опьянеть от радости неповиновения. Может, достаточно было бы дать народу почувствовать, что его услышали, что его восприняли всерьез. В конце концов, придя к зданию заводоуправления, рабочие в некотором смысле обратились с жалобой к руководству. Когда вышел Курочкин, толпа стала вести себя потише, чтобы было слышно и его, и их. Володя помнил, как все завертелись, пытаясь встать лицом к фасаду здания с колоннами, где стоял директор. Громкоговорителя не было, поэтому сказанное передавали по толпе, выкрикивая через плечо. Звук расходился кольцевидными волнами, обрастая по ходу дела комментариями. А потом — обрастая яростью. Володя находился достаточно близко, чтобы разглядеть нервную фигуру Курочкина, расслышать его самого, его блеющий без умолку голос. На него градом сыпались обвинения — по поводу зарплат, норм, нехватки квартир, сломанных плит в столовой, отсутствующего оборудования, положенного по технике безопасности, — а Курочкин от всего открещивался: не давал обещаний, не выражал сочувствие, а просто наотрез отказывался продолжать разговор, подразумевающий, что не все обстоит идеальным образом. Тут одна работница в головном платке, сильно расстроенная, сказала: “Как же нам жить-то, если мясо по два рубля кило? На рынке и то дешевле. Чем нам детей кормить?” А Курочкин ответил: “Пускай пирожки едят”, — и засмеялся, и добавил что- то о том, что ливер пока еще дешевый — чем он плох. “Говорит, пускай пирожки едят”, — повторяли выкрики по цепочке. — “Пирожками своих детей кормите”. “Пускай пирожки с ливером едят”. Крохотная пауза на переваривание. Кто-то заревел: “Да эти сволочи над нами издеваются!” После того крики не прекращались. Толпа кричала, колыхалась туда-сюда, вырвалась с территории завода, перекрытая железная дорога, карнавал на целый день, запрещенные заявления на пустыре у путей, туда же втянулись студенты и горожане, настоящее бедствие по нарастающей.