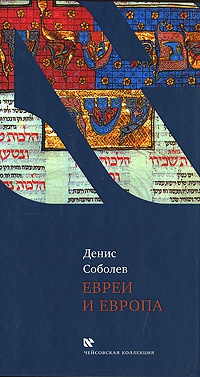Книга Брачные узы - Давид Фогель
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Лоти не промолвила ни слова.
Они достигли Ринга, по которому плотно неслись авто и переполненные людьми трамваи. Напротив высилось здание Парламента, запертое и запечатанное, оно было проникнуто надутым высокомерием и обрушивало политическую скуку даже на прохожих. В колоннаде перед входом прохаживалось несколько полицейских, поставленных для охраны царившего внутри запустения. Вдалеке, по другую сторону Шоттентора, загорались и гасли, как открывающиеся и закрывающиеся попеременно глаза, электрические стенды, рекламирующие мыло «Шихт» и обогреватели «Саламандра». Стайка любопытствующих столпилась вокруг огромного фургона с мебелью, у которого отлетело одно колесо. По сути все это было пусто и лишено всякого смысла…
Гордвайлю и Лоти пришлось выждать, пока стало возможно перейти на другую сторону Ринга. Они обошли Парламент слева и оказались в темном парке. Из раскидистых крон свешивались через ограду ветви, роняя время от времени тяжелые капли после недавнего дождя. Лоти сказала:
— Не нужно думать об этих вещах… Довольно того, что здоровые здоровы по своей природе. Эти вещи не касаются здоровых, просто не существуют для них. А ведь только на них, на здоровых, держится мир, только на них… Те же, кто этого не ощущают, сами так или иначе больны…
«Здоровые?» — подумал Гордвайль. Он совсем не желал быть одним из таких здоровых. К тому же и они ведь тоже больны… Больны, не отдавая себе в этом отчета…
Они были уже на улочке Лерхенфельдерштрассе, круто поднимавшейся в гору. Лоти всей тяжестью повисла на руке Гордвайля. И, словно взмолившись, сказала:
— Всякий человек хочет хоть немного счастья… Без этого ведь так тяжело…
И, помолчав, добавила с воодушевлением:
— Могу заявить не колеблясь: да, я эгоистка! Что мне, стыдиться этого, Гордвайль? Те немногие годы, что мне отпущены, а? Я хочу их прожить! Выжать их до последней капли, взять от них все что можно! Может быть, все женщины таковы. Но страдания мне невыносимы… Кажется, я могла бы даже причинить боль другому, если бы этим сумела отвратить страдание от себя самой… Признаюсь в этом открыто. Разве я злая? Я не хуже других. Но и лучше других быть не хочу!.. За это ведь нужно платить, платить своим собственным счастьем, а я не хочу от него отказываться. И удовлетвориться малым тоже не хочу. Мне нужно от жизни все! Все, что жизнь приносит нам, я хочу для себя! Поскольку ничего другого, кроме этой, материальной, жизни не существует!.. Ни во что другое я не верю, да и не хочу верить!.. Жизнь как она есть, ощущаемая всеми пятью чувствами, — это для меня! Она прекрасна, чудесна, и я хочу наслаждаться ею, пока она есть!..
Замолчав, они пошли дальше и скоро оказались неподалеку от дома Лоти. Но тут она вдруг пожелала еще на полчаса зайти в кафе. Для нее удовольствие, сказала она, то ли серьезно, то ли шутя, правда, несказанное удовольствие провести с ним еще полчаса, особенно теперь, когда они так редко встречаются. Гордвайль охотно согласился. Он даже обрадовался в какой-то мере ее предложению, ибо устал и был раздражен и надеялся, что найдет успокоение, посидев в кафе с Лоти, которая пребывала сейчас, судя по всему, в настроении ровном и немного меланхоличном.
Кафе было маленьким и заурядным, посетителей в этот час было немного. Когда они вошли, официант очнулся от безделья и широким жестом указал им на дальний угол, как будто уже давно специально приберегал его для них. В соседней комнате кто-то отрывисто бренчал на пианино. Гордвайль заказал два кофе и сигареты. И мельком прочел табличку напротив: «Место сбора арийских любителей природы, отряд Нойбау». В воображении его возникла на миг долговязая фигура арийского учителя — «любителя природы»: в зеленом штирийском жилете, в коротких и грязных кожаных штанах, с голыми коленями, загорелыми и костистыми, с глупым выражением бесцветного лица и свисавшей изо рта длинной, изогнутой трубкой. Официант принес кофе и сигареты, и Гордвайль услышал воображаемый голос президента объединения: «А теперь, высокоуважаемые господа, слово предоставляется нашему досточтимому собрату господину Эйгермайеру, а затем с позволения уважаемого общества перейдем к вопросам повестки дня». И господин Эйгермайер встает и заводит каким-то ржавым голосом: «Огромное и важнейшее значение, я настоятельно подчеркиваю это, уважаемые господа, огромное и важнейшее значение мы придаем созданию отрядов арийской молодежи в рамках нашей организации, отрядов, которые будут воспитывать молодежь в любви к родной природе, воздуху и естественной жизни, здоровой и гордой в духе учения спасителя нашего Иисуса Христа, и охранять ее от влияния нежелательных элементов, которые… гм… проникают в нашу среду с Востока и постепенно захватывают все, — я должен подчеркнуть это, — все в области экономических и гуманитарных дисциплин и в конце концов, уважаемые господа, захватят наше последнее и самое дорогое для наших сердец достояние — изумительную природу нашей прекрасной… и… чудесной страны, из-за чего мое сердце обливается кровью…» А дома потом господин Эйгермайер расскажет невзначай проснувшейся при его появлении жене о том, что сегодня на собрании объединения он произнес получасовую речь. Говорит он это вовсе не в похвалу себе, ей ведь известна его скромность, но все члены объединения превозносили его идеи и краткую и точную форму, найденную им для их выражения… Жена же протяжно зевает, рассеянно слушая его, и снова засыпает, пока он освобождается от одежды, до чрезвычайности довольный собой…
Гордвайлю было приятно представлять все это действо, без всяких обязательств и вынужденного душевного участия. Вымышленная эта сценка принесла ему некоторое отдохновение. Он внутренне улыбнулся и стал пить кофе маленькими глотками. Официант стоял неподалеку и, опершись о столик, погрузился, по всей видимости, в глубокие размышления. Однако, когда Лоти, закончив пить кофе, взяла в рот сигарету, он мгновенно подскочил к ней и предложил огня.
То ли Лоти передалось что-то от настроения Гордвайля и странных его размышлений, то ли она почувствовала это в самом пространстве вокруг, так или иначе, она сказала:
— Тут что-то особенное в воздухе. Словно все разнообразные мирские дела вдруг сократились до какого-то простого единственного элемента, ограниченного, скотского, связанного с землей… Мне это напоминает одну заброшенную таверну в горной деревне.
Лоти сложила губы колечком, выдохнула невидимый дым и продолжила:
— Сидишь в такой таверне днем или вечером. Особенно вечером. Кроме тебя только несколько человек. Некоторые играют засаленными, мятыми картами, кто-то, томясь и чего-то желая, склонился над стаканом. Горцы — сумрачный народ, с медленными движениями, будто вся тяжесть огромных гор лежит на их плечах… Они сидят себе молча, а ты смотришь на них, и вдруг тебе начинает казаться, что весь огромный мир со всеми его тяготами и заботами тает и течет у тебя между пальцами… Тает и исчезает совершенно, словно и не было его никогда… А существует только эта маленькая таверна с горсткой посетителей и громады гор вокруг… Грандиозное ощущение, я вам скажу. И в этот миг тебе нисколько не жаль всего огромного мира, несмотря на страх, который охватывает тебя при мысли о его потере и собственном своем неожиданном сиротстве… Наоборот, самый этот страх добавляет тебе храбрости, потому что с этой минуты у тебя нет больше никого, только ты один…