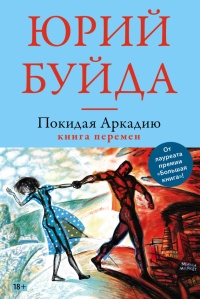Книга Дом моделей - Александр Кабаков
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Да не разбудишь ее, говорит Юрка-Декан, задрушляла, как у себя в хате.
Ну оставь ее тут, говорит Борух, оставь ее вот тут, в пустом хардеробе, пусть продрушляется.
А она, смотри, уже обсурлялась вся, куда ее в машину, говорит Юрка-Декан.
Поехали, поехали, схиливаем, говорит Борух.
Очень они любят джазовые слова, эти здоровые ребята, ядро университетского волейбола, горе и рок крымских пляжных фраеров, преферансная элита, двухметровые двадцатилетние аборигены, очень они любят весь джазовый понт – кроме музыки, конечно.
И отъехал «москвичок».
Спит в гардеробе, среди пустых железных стоек бедная сержантская дочка. Спит, сидя на полу, на мокром подоле выходного штапельного платья в розочку.
А «москвичок» помигал задними фонариками – и нет его. Твист, как говорится, эгейн.
Твист-твист, рок-а-билли, твист-твист, орет Юдык, мокрый как мышь.
Ржавый подыгрывает в унисон с Конем – твисттвист!
И Долбец успевает вставить брэйк – рок-а-билли!
И Гарик чешет октавами, так что того гляди развалится фоно.
И отчаянно прыгают по струнам молоточки, и вся эта открытая механика ходуном ходит на виду у танцующих – передняя дека снята, и микрофон пригнут к самым струнам. Твист-твист!
Тот же вечер. Одиннадцать пятнадцать.
Извините, говорит Леночка, извините, я скоро приду. И он понимающе улыбается – мол, в чем дело, мы же не ханжи, не в деревне, в дабл так в дабл, счастливого пути и полной удачи, и машет даже приветственно рукой.
Я сажусь за свой столик и по полному праву наливаю себе хороших полстакана баккарди. Это наша с Колей пополам бутылка, и я имею право на хороший мужской глоток, пока жду подругу.
Подруга еще видна – вот она пробралась через зал, протиснулась в вестибюль, прошла мимо гардероба, покосившись на что-то, даже остановившись на секунду, и скрылась за углом, там, где, я знаю, за пыльной занавеской есть, одна на оба пола, дверь с длинным крючком изнутри, а за дверью желтая раковина. И противоестественно грязный унитаз – за еще одной внутренней дверью, с еще более разболтанным крючком. На передней двери толстой прерывающейся красной линией – цветным карандашом – написано «туалет».
Сейчас она уже моет руки. Надо будет потом незаметно позвонить матери, что ночую у Юрки... И куда? Можно, конечно, к тому же Юрке – если она пойдет... Можно на Веселый остров... Хотя уже холодно ночью. В пиджаке ничего, если идти, а если сидеть... Октябрь. Вот черт! Ну где же ночной отель и портье, у которого нужно записаться как мистер и миссис Смит?
Музыканты наконец кочумнули, устал Юдык, и все устали, задохнулись, садятся. Сейчас все отдохнут, еще кирнут, Коля объявит официальное окончание вечера – и начнется джем! Вон уже Морух открывает футляр, вон еще какой-то незнакомый, с бородой как у Монка, это, наверное, тот, из Вильнюса, про которого вчера говорил Колька, достает альт... Ну, сейчас будет джем!
В тот момент, когда Морух достает из коробочки новую трость и начинает вставлять ее в мундштук, когда я допиваю ром и ставлю стакан, когда Гарик приподнимается на стуле, чтобы придвинуться ближе к педалям и начать, – из вестибюля раздается крик. Это очень громкий женский крик, не понять слов, и даже я не сразу соображаю, откуда он раздается. Но одно я, как ни странно, понимаю сразу: это кричит моя новая знакомая, Леночка из московского ин-яза, столичная гостья.
Потом, когда все бросились туда, и даже Гарик, приподнявшись со стула, не придвинул его к пианино, а встал совсем и сделал шаг к вестибюлю, и Морух положил мундштук снова в футляр и обернулся, и прибалт весь дернулся и улыбнулся на всякий случай, и когда сквозь уже начавшиеся команды дружинников «Куда?! Куда?! Все в зал вернитесь! Пройдите!!! Здесь не кино!» прорвался второй ее крик, – я разобрал слова и одновременно понял, откуда она кричит.
Она кричала оттуда, из-за пыльной занавески, оттуда, где красной прерывистой карандашной линией было написано «туалет». И кричала она вот что: «Дверь! Закройте дверь! Дверь!»
И сон кончился. И я протрезвел. И началась ночь...
Так не играем, Грин, сказал Борух, это не игра, ты дергаешь.
А за такие слова, хлопчик, можно свободно получить ув хлебало, сказал Грин, ты меня за руку держал чи как, шо ты ховоришь, я дергаю?
Ладно, не дергаешь, сказал Борух, но играть больше не буду.
А кто это у тебя там вякает, Грин, спросил Юрка-Декан, кто это там у тебя вякает в спальне, а?
Да, сказал Витька, кто, вроде чувиха?
Да зассышка одна, сказал Грин, понял, покушала, попила, понял, и не дает, так я ее на усякий случай к койке пристехнул, пусть отдохнет, подумает, шо оно такое жизнь.
А ты сука, Грин, сказал Борух, сейчас я тебе так вломлю, что ты все поймешь, сука ты рваная.
Хнида, ховно, падла, сказал Куцый, я тебе сейчас по яйцам засажу, так ты от чувих на всю жизнь отстанешь.
Бросьте, ребята, схиливаем отсюда, заборайся он в рот с его чувствами, сказал Юрка-Декан, шо у нас, своего горя нету?
Нет, сказал Грин, вы не спешите, мальчики, вам не надо спешить, усе равно с вами ребята с Шепелевки и с базара разберутся за такую хрубость до мене, хлупые вы дураки, и ты, Борух, мудило ты бед...
И врезал Борух.
И врезал Грин – даром что толстый, а удар крепкий, не кисель, и правильный, злой, точный – прямо в дыхало.
И лег Борух.
И Куцый уделал Грина ровно в хлебало, будто блок пробил на первенстве «Буревестника».
И лег Грин.
А Юрка-Декан сгреб все башли – и к двери, кочумай, чуваки, хватит ему, насовали, пошли.
А Витька уже в спальню шагнул и увидел, какая же все-таки сука Грин. Фашист, падла! А может, это и к лучшему, что фашист. Потому что трусики в тот год у всех наших девочек были одинаковые, египетские появились, а лица, как и всегда, разные. И увидел Витька только желтое солнце-клеш, задранное на лицо и связанное над головой бельевой веревкой, а конец веревки – к спинке кровати, и арабские трусики. А больше ничего не успел увидеть – шагнул к кровати, отвязал бельевую веревку – и едва устоял, отскочил от удара в живот оранжевыми кудрями.
И вылетело неузнанным существо из проклятой хаты – вот и вся благодарность освободителям.
Да и правильно. Узнали бы – и не жить бедной Лидке в университете, потому что и благородные игроки – они тоже люди. И, скорей всего, ездила бы она с ними еще года три в Мисхор, и возвращались бы они с промысла своего под вечер, и шли бы в приморский кабак, и возвращались бы опять под большой балдой, или, уже на третьем году, в большом кайфе, и спали бы в одной незаконной пансионатской комнате, и совсем бы она с ними, по доброте и симпатии, заборалась, или, года через три, затрахалась бы. Не дай бог...
Но схиляла она.