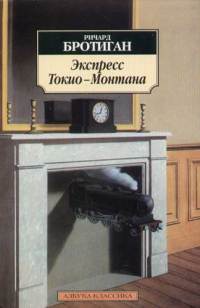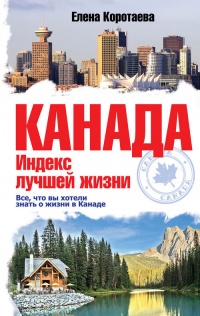Книга Канада - Ричард Форд
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Руди немедля затанцевал — в одиночку. Скакал и скользил по полу гостиной, улыбался, приседал и подпрыгивал, ронял руки, кружился — с пивом в одной руке и сигаретой в другой.
— Потанцуй со мной, — сказал он, взглянув на меня, и приблизился ко мне, обнял руками за плечи и поднял с пианинного табурета, на котором я сидел.
Он вел меня спиной вперед, кружил, постукивал пальцами, отталкивал и привлекал к себе, наступая мне на ноги большими черными башмаками, улыбаясь, выдыхая пары виски и сигаретный дым, ободранные руки его то стискивали мои плечи, то ложились мне на спину. Раньше я никогда не танцевал. Не думаю, что танцевал — по-настоящему — и в тот раз. Я видел однажды, довольно давно, как танцевали мать с отцом. Разница в росте не облегчала для них эту задачу. Мама любила русский балет и презирала «узколобые вкусы танцулек», в аккурат отцу и присущие.
Бернер хмуро смотрела на нас, зажав в губах сигарету, а мы с Руди кружили по гостиной. Мне нравилось.
— Хватит отплясывать со своим дружком, — наконец сказала она. — Потанцуй лучше с подружкой.
— А чего, юный Делл кайфует, — ответил Руди.
Он запыхался, улыбка его стала полубезумной. Отпустив меня, он начал точно так же танцевать с Бернер, у которой это получалось ничуть не лучше моего. Голова кружилась, меня немного подташнивало. Я сел в освобожденное Бернер кресло и стал наблюдать за их танцем.
Следом за «Бурой кружкой» зазвучала «Звездная пыль», отец часто слушал ее. Сначала Бернер и Руди танцевали скованно, держась друг от дружки на расстоянии вытянутой руки. Лицо его сохраняло серьезное выражение — он старался следить за движениями своих ног. А Бернер, похоже, скучала. Затем они сблизились — не в первый, мгновенно понял я, раз. Лицо Бернер закачалось над плечом Руди, она закрыла глаза. Роста они были почти одинакового, да и вообще обладали немалым сходством — большим, чем мы с ней. Оба веснушчатые, ширококостные. Белые теннисные туфли Бернер скользили по ковру в лад с неуклюже ступавшими ботинками Руди, и он, и она держали в пальцах сигареты — он еще и бутылку с пивом. Я снова глотнул «Эвана Уильямса» из стоявшей на полу фляжки, и виски снова обожгло мне желудок, однако результат получился неплохой, я мгновенно успокоился, хоть и не подозревал до этого, что мне неспокойно. Я сидел в зеленом кресле, наблюдал за танцем Руди и Бернер, — за ним, напялившим офицерский китель отца, за ней, повисшей на его шее. Мне казалось, что кто-нибудь наверняка вот-вот начнет колотить в нашу переднюю дверь и застукает нас, курящих, пьющих и вообще ведущих себя неподобающим образом. Но мне было все равно. Я был счастлив. Счастлив, потому что была счастлива Бернер. Порадовать ее всегда было трудно. А сейчас я словно следил за танцем наших родителей и все снова стало таким, каким ему положено быть.
Они продолжили танец под еще одну мелодию Гленна Миллера, лицо Руди совсем покраснело. Распарился под кителем отца. Внезапно он перестал танцевать, стянул китель, бросил его на кресло и снова принялся разгуливать по гостиной, объявив, однако, что скоро уйдет. Бернер стояла в центре комнаты, наблюдая за ним. Руди сказал, что придумал, как ему разжиться нынче ночью кой-какими деньжатами, но нам лучше ничего об этом не знать. (Украсть что-то собрался, решил я.) Сказал, что если его застукают на этом деле, то отправят в тюрьму, которая в Дир-Лодж, потому как ему уже семнадцать. Тут за ним кое-кто следит, а вот в Калифорнии народу столько, что никому он там в глаза бросаться не будет, не то что в Грейт-Фолсе, «дурацкой дыре», которую он ненавидит.
Потом он спросил у Бернер, не найдется ли в нашем доме чего пожрать. А то у него с утра только и было во рту что арахис, который он «слямзил» в итальянском магазине, да пиво с виски, купленные у индейцев на деньги, выуженные им из папашиного бумажника. Бернер ответила, что в холодильнике лежат замороженные стейки — еще те, что отец привез с авиабазы. Она может поджарить один. Руди сказал, что это было бы здорово.
Некоторое время мы с ним просидели в столовой, включив верхний свет, — шторы были задернуты, снаружи никто нас увидеть не мог. Два дня назад здесь сидела вся наша семья. Руди курил и прихлебывал из горлышка то пиво, то виски. Бернер выложила кусок замороженного мяса на сковороду, чтобы приготовить его в «Вестинг-хаузе», как называл это устройство отец. Я никогда не видел ее готовившей и потому не верил, что у нее что-то получится. У меня не получилось бы. В гостиной Руди снял с полки мамину книжку — сборник стихов Артюра Рембо — и прочитал из нее пару строк. «Вперед, к проперченным, вымокшим странам! К услугам самых чудовищных эксплуатаций, индустриальных или военных…»[12]Это я запомнил. Руди все еще казался мне дружелюбным и загадочным. Спутанные рыжие волосы и взбухшие на руках вены оказывали ему хорошую услугу, наделяя его своеобразием. Не думаю, что он был умнее меня. В шахматы он не играл — это мне было известно. Он ничего не знал о разных местах на глобусе, о которых кое-что знал я. В колледж поступать не собирался, а собирался податься в бега. Я был почти уверен, что он в жизни своей не читал «Тайм», «Лайф» или «Нэшнл Джиографик». Однако из этого же не следовало, что Руди не хватало ума, — как-никак он носил на поясе нож, а на ногах ботинки со стальными носками, пил, курил, строил планы о том, как добыть деньги, много чего знал о мормонах и чем-то там занимался с Бернер в отцовской машине, приезжая на ней к городскому аэропорту. Все это чего-нибудь да стоило.
Пока мы сидели за столом, Руди поведал мне, что зиму он проведет в другом климате, в Калифорнии, где живет его настоящая мать. Папаша говорит, что Руди лучше бы, пожалуй, было и не рождаться на свет или, по крайности, родиться сыном человека шибко терпеливого. Руди опустил сигарету в пивную бутылку (пепельниц в нашем доме не водилось), закурил другую и предрек, что в конце концов попадет в тюрьму. Думаю, он позабыл к той минуте, что туда попали наши родители и потому такие слова могут задеть мои чувства. Он сказал, что вон уж сколько прожил в Грейт-Фолсе, но так ни одним другом и не обзавелся, а с городом, в котором человек не может завести друзей, наверняка что-то неладно. Собственно, это касалось и нас с Бернер, хоть я и полагал, что дело тут в страхе, который внушала маме мысль о приспособлении к внешним обстоятельствам. Руди сердито глянул на меня через стол, но, похоже, вдруг вспомнил, в каком ужасном положении оказались Бернер и я, и сказал, что, по его понятиям, мы ничем теперешней нашей жизни не заслужили. Для меня это новостью не было — я и сам так думал. Думал, что если наши родители ограбили банк — по каким бы причинам они это ни сделали, — так виноваты в этом они, а не мы. Это и дураку понятно. Насчет поступления в морскую пехоту или женитьбы на Бернер Руди на сей раз ничего не сказал.
Бернер пришла из кухни с куском мяса на белой тарелке и поставила ее перед Руди. На тарелке лежали крест-накрест нож и вилка. Кусок мяса. Ничего больше. Выглядело оно жестким, как доска, а по обожженным краям — там, где раньше был жир, — загибалось кверху. В общем, съедобным не казалось. Бернер подбоченилась, сдвинула бедра чуть в сторону и нахмурилась, глядя на мясо так, точно вид его нисколько ей не нравился.