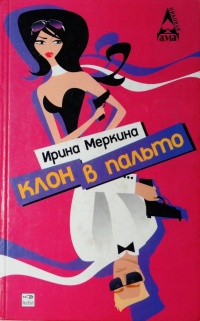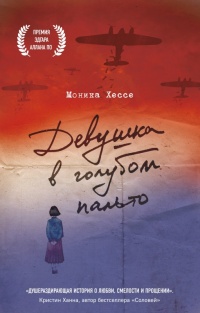Книга Змей в Эссексе - Сара Перри
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Я все думаю о нашем разговоре. Я рад, что Вы меня встряхнули, пробудили от сытого безразличия, заставили поинтересоваться тем, как живут другие; мне стыдно лишь, что для этого Вам пришлось приложить усилия. Я прочел все, что Вы мне советовали, и даже больше. На той неделе ходил в Поплар и собственными глазами видел состояние тамошних домов, и как там люди живут, и как одно связано с другим.
Я написал Чарльзу Эмброузу, надеюсь, он ответит. Он влиятельнее меня и лучше понимает, как работает правительство, так что, думаю, будет нам полезным. Надеюсь, мне удастся уговорить его сходить вдвоем в Поплар или Лаймхаус и показать ему то, что мы с Вами видели. Быть может, Вы надумаете к нам присоединиться?
Прилагаю вырезку из «Таймс», надеюсь, она Вас порадует. Похоже, закон о жилье для рабочего класса наконец-то начинает действовать. Будущее уже близко!
Люк приехал в Олдуинтер в зените славы и в новом сером пальто. И хотя успех не избавил его от невзгод, все же нельзя было отрицать, что подобное доказательство мастерства и отваги сослужило ему добрую службу. Сердце Эдварда Бертона в Бетнал-Грин с каждым часом билось сильнее; он полюбил рисовать купол собора Святого Павла и к середине лета думал вернуться на работу. Люку казалось, будто сердце Бертона бьется в его груди, и оттого он чувствовал себя вдвое сильнее; и пусть Гаррет знал, что гордыня предшествует падению, но ему было до того непривычно и приятно сознавать, что теперь хотя бы есть откуда падать, что он охотно шел на этот риск.
В поезде из Лондона и в кэбе из Колчестера он думал о Коре, разглаживая на коленке ее письмо. «Вы нужны нам», — писала она, и Люк, нахмурясь, гадал, кому это «нам». Уж не этому ли ее священнику, о котором она то и дело упоминала в письмах и который сманил ее из Лондона в эссекскую грязь? Ревность, которую Люк испытал, когда Кора склонилась над подушкой умиравшего мужа и поцеловала его в сальный лоб, была ничто в сравнении с тем, что он чувствовал, видя это имя, написанное ее рукой. Сперва она писала «мистер Рэнсом» — отстраненно, как о чужом; потом «почтенный викарий» — с ласковой насмешкой, от которой Люку было не по себе; и, наконец, без предупреждения, просто «Уилл» (даже не «Уильям», что само по себе ужасно!). Люк пытался отыскать в письмах Коры доказательство того, что она питает к преподобному чувства сильнее дружеских (пусть с неохотой, но все же признавая за нею право дружить с кем-то, кроме него самого), но ничего не обнаружил. И все равно, глядя на проносившиеся за окном поезда поля и собственное темное отражение поверх них, думал: «Только бы он оказался толстым, старым, пахнущим пылью и церковными книгами!»
В сером доме на лугу Кора ждала у двери. С того самого утра на уроке у мистера Каффина она спала беспокойно и винила во всем себя. Ведь Уилл ее предупреждал: не стоит облекать в плоть и кровь здешние страхи — и оказался прав. Дети — невероятные фантазеры, а она еще и подпитала их выдумки, вот девочки и увидели этого змея так же ясно, как коров, пасущихся под Дубом изменника. А как они смеялись, как вертели головами! Это было ужасно, и Кора надеялась, что Люк сумеет ее успокоить и все ей объяснит.
Джоанна после случившегося замкнулась в себе и хотя по-прежнему приходила в школу пораньше с книгами под мышкой, но с Наоми Бэнкс больше не общалась и каждый вечер делала уроки на кухне, где постоянно крутился кто-то из домашних. Хуже было то, что с того самого дня девочка ни разу не рассмеялась, словно страшилась, что, начав, не сумеет остановиться. Сколько бы братья ее ни дразнили, сколько бы ни дурачились, она ни разу не улыбнулась. Кора боялась, что новые друзья обвинят ее в том, что случилось, и в том, что Джоанна впала в уныние, но ни Уилл, ни Стелла не видели, как все произошло, а когда им обо всем рассказали, решили, что девчонки — глупые создания, им лишь бы хихикать по пустякам.
Но самое печальное, что Кора утратила прежний живой интерес к Блэкуотеру. Она не думала — о нет! — что это Божья кара, но решила, что, пожалуй, у каждого в глубине души есть тайны, которых лучше не доискиваться. Но вот наконец на лугу показался Люк в обнимку с саквояжем и, завидев ее на пороге, припустил к ней едва не бегом.
* * *
Несколькими днями позже, но на той же неделе, Джоанна, сложив руки на коленях, недоверчиво смотрела на черноволосого доктора.
— Не бойся, — бодро говорил он, но его напускное оживление не обмануло девочку. — Делай, что тебе говорят, и все будет хорошо. Расскажите ей, Кора.
Кора, в шарфе с вышитыми птицами, сказала:
— Да-да, он как-то раз проделал со мной такое, и в ту ночь я впервые за многие годы отлично спала.
Они сидели, не зажигая свечей, в самой просторной комнате серого Кориного дома. Шел обложной дождь, и не приходилось рассчитывать, что вскоре распогодится, как после грозы. Джоанна зябла. На большом диване у окна между Корой и Мартой сидела ее мама. Женщины держались за руки, словно на спиритическом сеансе, а не на процедуре, в которой (по утверждению Люка) было не больше тайны, чем в удалении больного зуба.
Из собравшихся только Марта не одобряла мысль подвергнуть девочку гипнозу, чтобы узнать, что же все-таки вызвало «смеховой припадок», как она его называла.
— Для вашего Чертенка мы всего лишь куски мяса, а вы хотите доверить ему сознание и память ребенка? — Марта прогрызла яблоко до зернышек и добавила: — Гипноз! Это всё его выдумки. Даже слова такого нет.
Впрочем, справедливости ради надо сказать, что о гипнозе заговорили только после того, как уладили некоторые вопросы. Мистер Каффин, опасаясь потерять место, за несколько дней подготовил отчет, где перечислил всех девочек, которых затронуло случившееся, их возраст, адрес, род занятий отцов и средний балл успеваемости, а к отчету приложил схему, на которой указал, кто из учениц за какой партой сидел. Он горько жалел, что Кора поселилась в деревне, но, разумеется, ни за что бы в этом не признался. Малышка Хэрриет согласилась ответить на вопросы, сидя у мамы на коленях, и так подробно и красочно описала свернувшегося кольцами змея, который расправил крылья, точно раскрыл зонтик, что общее мнение о ней было таково: милое дитя, но ужасная врунья. Подслушивавший под дверью Фрэнсис не мог понять: если про девочку говорят, что она «ужасная врунья», значит ли это, что она совсем не умеет врать или, наоборот, врет очень уж искусно? Наоми Бэнкс, с которой все и началось, наотрез отказалась что-либо объяснять: понятия не имею, о чем я думала, оставьте меня в покое. Родителям польстило, что их дочерей осмотрел столичный доктор и нашел, что все девочки совершенно здоровы (за исключением шестерых, у которых обнаружил стригущий лишай и тут же его обработал — впрочем, едва ли стригущий лишай мог послужить причиной истерики).
Люк, который за ленчем познакомился со Стеллой Рэнсом — и отметил яркий румянец на ее щеках, — сказал:
— У страха должна быть причина, что-то, что напугало детей. Вопрос лишь в том, как развеять страхи, если девочки не могут или не хотят о них рассказать.