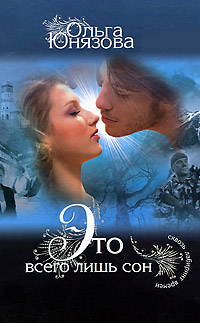Книга Плач Персефоны - Константин Строф
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
На какое-то время она осталась одна. Придя на кухню, Пилад с застывшим взором долго проверял большим пальцем остроту лезвий, перебирая один нож за другим. Страшно жаль было позабытого где-то ружья, уже вселявшего однажды запросто уверенность.
Подходящий инструмент вызвался, и Пилад вернулся в спальню, волоча за собой прихваченный попутно стул. На глазах у обомлевшей Ольги он положил нож на прикроватный столик и направил свет маленькой читальной лампы ей в лицо. Дрожащий стул был выпущен еще прежде на середине комнаты, а портрет зевающего щенка – снят со стены и положен на тумбочку стеклом вниз. Во время всех приготовлений Ольга пробовала встать, ломая руки и читая вслух нечто нечленораздельное, но Пилад, не оборачиваясь, раз за разом возвращал ее на место коротким взмахом руки. Напоследок он погасил верхние лампы и сел напротив, сцепив пальцы рук на коленях. Наступила тишина.
Пилад молчал, напрасно ожидая встречного чистосердечия. Он созерцал свою, казалось, нисколько не изменившуюся подругу, тщетно пытаясь выискать в ее облике незаметные прежде черты порока. Он видел, как пульсирует глубокая яремная впадина, дающая начало ее бледной шее.
– Что? Что? – отрывисто проговорила Ольга, всхлипывая. Ее лицо было чуть ниже, и выглянувший подбородок со своей асимметричной ямкой, казалось, умолял. – Где ты был?
– Рассказывай, – водрузил на место ответа голос из полумрака, удивив хозяина своей сиплостью.
– Что я должна рассказать? Нежин? – Первое слово было сказано. И, кажется, одного этого хватило, чтобы ее немного воодушевить.
– Историю своей лжи, – ответил Пилад с видом бесстрастным.
– Какой лжи, Нежин?
У Пилада поразительно скоро вышла энергия, и он впал в озлобленное уныние. И вновь перехватило горло, кое-как заговоренное на лавке в саду. Быстро взяв в руки нож, он поднес его ко лбу и провел лезвием по коже. Оно оказалось тупее, чем доложил когда-то давно палец. Пилад пристально посмотрел на обманщика, размышляя, стоит ли его за то обезглавить.
Раны не получилось, но из царапины все же проступила кровь. Ольга взвыла, схватившись за рот рукой. Нет – даже в таких мелочах теперь сквозило притворство, хоть и определенный эффект удался. Она в очередной раз попыталась встать, но Пилад заставил ее отказаться, кивнув острием – на сей раз алчно сверкнувшим.
Слезы лились из остановившихся глаз на дрожащие щеки и губы, открывая, чудилось, неистощимые запасы влаги. Пилад не мог заплакать, и все скопившееся встало в горле недвижным комом из свинца и шерсти.
Он стремительно слабел. Он видел, что она ничего не скажет сама. Среди мыслей каким-то невероятным образом нарождались гнусавые голоски сомнений, но ужас измены, скрепленной печатью бесконечной дрожи, быстро заглушал все. Пилад поднялся. Побродил недолго – подошел вплотную и, глядя в глаза пленнице, открыл кончиком ножа верхний ящик тумбочки, заполненный ее пожитками. Ольга бегло глянула в ту сторону, но взгляд ее оттого ничуть не изменился. Кожа натянулась у Пилада за ушами и на лбу, словно кто-то впился в нее ногтями и собрал на затылке в комок. Он неуверенно покосился. Ящик выглядел иначе. Разрозненные бумаги в нем не таили больше под собой никакого утолщения. Увесистого, перевязанного накрест серебристой ленточкой…
Письма исчезли.
– Ах ты, дрянь… – и заплясали вслед за грохотом разномастные листки. Пилад выпустил нож, следом провалившийся сквозь землю, и замахнулся. Прежняя Ольгина смелость дала трещину. Задом поползла она от него через кровать, сволакивая одеяло. Отчетливо различались редкие дыбом вставшие волоски на голых ногах. В отчаянии Пилад проклял единственным пинком тумбочку и скрылся в прихожей. Где стоял с минуту неподвижно, полнясь желанием совершить что-то оглушительно громкое, непоправимое, под крики окрашенное в какие угодно тона: всё одно, потом – тьма. Со стены над вешалкой доносились равнодушные щелчки секундной стрелки часов, своей монотонностью демонстрирующих мелочность всех встреченных ими когда-либо острасток. Мгновение Нежин боролся с безумной мыслью уйти навсегда, но затем круто повернулся и, не дав опомниться, заперся в своей комнате.
Но бетонная клеть недолго смогла удерживать его под своей теплой одноцветной сенью с необнаружимым ртом сквозняка. Здесь мешкали и селились только слова. Даже из числа неозвученных.
В скором времени он вернулся, застав Ольгу сидящей с поджатыми коленями, в слезах.
Ночь пожелала быть несносно долгой и однообразной. Была растеряна в тягучих переплетающихся повторениях и сметена на пол вся сила.
Как человеку, бессильному добиться чего-то сложа руки, Нежину требовалась какая-нибудь демонстрация, местом для которой его неразумность в конечном счете избрала постель.
3
Утро показалось еще хуже ночи. Во сне Нежин неосознанно прижался к Ольге, на что та горячо обняла его, но в рассветном холоде он очнулся и брезгливо отстранился. Было искаженное помехами мгновение испуга, а итогом уже пролилась под закрытыми веками тоска. По шорохам согревающейся памяти быстро стало известно, насколько все стало гаже.
И несколько часов прошло без движений.
Все было с виду как всегда, но Пилад неосознанно отводил всякий раз рождающееся на пустом месте успокоение. Он был иным и уже не мог позволить себе забыть. И все-таки моментами было трудно различить обман – величайшее ослепление повседневности. Органы чувств лишь кротко кланялись, мысли же сновали с видимостью дела, боясь остановиться для разговора. А за окном возникающая порой по воле ветра круговерть желтизны и дождевых капель останавливала всякую попытку движения.
Она спала рядом. Лицо ее было одутловато и совершенно спокойно. Пиладу даже показалось в нем определенное умиротворение и довольство. Не выдержав, он покинул постель. Руки и ноги его не слушались. Перекипающее изнутри смешивалось с холодом, простершимся вокруг, и сплав вызывал неутолимую дрожь.
Она беззвучно явилась в скором времени. Увидев ее, Пилад отвернулся. Но бесконечно сберегать молчание не смог. Вся уродливость раздевшихся перед ним истин возникла вновь, с самыми свежими красками. Неумолимый голос настойчиво продолжал повторять чужие мерзости, с неуместной прилежностью выведенные на бумаге и зачем-то хранимые ею. Они, как невидимые пальцы, проникали наружу теперь уже из его собственной головы, перешептываясь, забирались под подол равнодушно зияющей ночной рубашки и надменно вылезали обратно, переставая быть просто словами. Вальяжно развалившись на глазах у Пилада, они давали ему возможность вдоволь наглядеться на свое унижение, а только потом уже быстро карабкались, смердя, ему на грудь и медленно смыкались на шее. И он, все еще живой, хоть и храпящий, начинал завидовать мертвым.
Его родную малорослую кухню не посвятили, и она робко притихла. Спустя какое-то время изможденный собственным бессилием Пилад остановился и влез на стол, словно квартиру затопляло.
– Разве я играл перед тобой когда-нибудь? – произнес он глухо, неясно обозначая вопросительность сказанного.