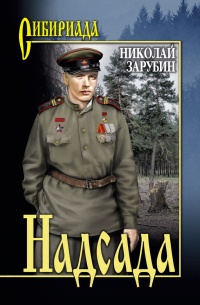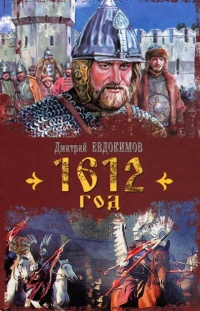Книга Духов день - Николай Зарубин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Твой хоть тверёзым был человеком, а Капка и тверёзый всю душу вынет. Свекровушка хоть одёргивала его, а меня он и слушать не станет.
– Небось одумается, – старалась успокоить подругу Галя.
– Как же, держи карман шире, – не соглашалась Катерина.
В тот первый год после смерти матери своей, Настасьи Степановны, Капитон вроде бы уменьшился ростом, с лица не сходило выражение неизъяснимой печали. И ел, и пил он словно по привычке, по привычке стоял у своего фрезерного станка, что-то подбивал и подколачивал по дому, пилил, колол дрова, ездил с флягой к водоразборной колонке за водой. Всё делал вроде так же, как и всегда, да по-иному, чем всегда. Замедленно. Раздумчиво. Замкнувшись в самом себе.
Чаще, чем всегда, стал выпивать в мастерской с мужиками, с которыми бок о бок отработал не один десяток лет. Те, видно, тоже его жалели, по-своему подбадривали, что-то пытались растолковать на пальцах, но безуспешно – Капитон улыбался виновато, кивал головой, произносил те немногие слова, какие произносил всегда:
– Хоросё, Пета…
Или:
– Хоросё, Мишя…
Домой приходил пьяненьким, Катерина искоса поглядывала в его сторону и помалкивала.
А в ночь с девятого на десятое октября он умер. Умер, сидя на крыльце, а точнее – замёрз во сне, не дожив до годовщины после смерти своей матери и всего-то шестнадцать деньков. Словно с уходом Настасьи Степановны выбита была из-под него та заглавная становая крепь, которая удерживала его в мире живых, и жить стало больше не для чего и незачем.
С уходом из жизни Настасьи Степановны и Капитона дом семьи Зарубиных стал как бы распадаться. Родня, какая ещё оставалась, обходила стороной, старшие дети разъехались, младшие ожидали своего часа, чтобы уж тоже покинуть родные углы. Катерина приняла чужого мужика, но жила с ним как-то невесело, без покоя в душе, нередко ставя в пример Капитона, когда наблюдала за работой своего нового мужа:
– Капка-то семь раз отмерит, прежде чем отрежет. А уж сделат, дак любо-дорого посмотреть. А ты… Безрукие вы, мужики. Ничего-то толком не умеете.
Мужик обижался, но помалкивал: Катерина могла одёрнуть и хуже того – матом понужнуть, так что лучше уж промолчать.
А в родительский день на недальнем афанасьевском погосте, где упокоили свои косточки дорогие ей люди, прежде подходила к могилке «свекровушки», оглаживала руками фотографию, памятник, тяжело вздыхала и зачинала выть – протяжно, надрывно, с приговорами и причитаниями. Никто не мешал ей выплакаться – ни свои, ни вовсе чужие люди, каких в тот день на кладбище было великое множество. Дети, с которыми приехала, отходили в сторону, будто они сами по себе, а Катерина – сама по себе. Да она в такие моменты и была сама по себе, никто не был в состоянии проникнуть в её душу и подглядеть, что же там творится.
– Свекровушка моя милая, закрыла глазыньки, сложила рученьки и лежишь себе в сырой землице, отдыхашь… – причитала Катерина. – Наработалась, намучилась, пристала носить своё тело и подкосились твои ноженьки, сомкнулись уста навеки-и-и… Уж сколь раз ты меня спасала, сколь слёз выплакала я на твоём плече – в речке Курзанке нет столь водицы. А уж как внучиков своих любила, как пеклась о них, какие разносолы им готовила – никада они боле не поедят твоих шанежег и пирожков… И я никада боле не услышу твоего тоненького голосочка, твоих тихих песенок… Раньше всех в дому подымалась, жарила и парила в кути, чтоб детки в школу пошли поевши, чтоб Капка сытым пошёл на работу, а я поспала лишнюю минутку-у-у…
Причитания Катерины были понятными каждому, кто их слышал. Разносились они по всему небольшому Афанасьевскому кладбищу, и, казалось, пришедший к могилкам своих близких народ умолкал на некоторое время, вслушиваясь в бесхитростные слова страдающей женщины. Словно она выговаривала за них всех и то, чего они сами не в состоянии были произнести вслух, но держали в сердцах своих, в умах, душах.
Наплакавшись, наревевшись и напричитавшись, Катерина начинала деловито распоряжаться, чего и кому положить на могилку, кто, что любил, и что она с раннего утра приготовила, собирая сумку. Сынку Мише – драников, Настасье Степановне – побольше сладеньких конфеток, потому как та любила пить чай с конфетками, Капитону – блинчиков и водки стопочку, дочке Галине – печеньица и всем вместе – по освящённому пасхальному яичку.
Пока Катерина была в силе, в те памятные родительские дни обходила могилки всех покойных родственников, находя и для них свои особые слова: Кости «Маленького», Кости «Большого», брата Кешки, Марии и Володи Казановых, Лёни Мурашова, других умерших, до которых могла добраться. Когда сил не стало, ограничивалась поминальным столом дома.
Сама она прожила восемьдесят семь годков, словно награждённая Создателем долгой жизнью за своё великое терпение, за своё большое любящее сердце и за то, что в молодые годы не побрезговала калеченым «немтырём» и народила ему четверых ребятишек, приняв такую судьбу свою как нечто неизбежное, без чего нельзя человеку прожить на свете. Может, и по той причине, что, оказавшись пред очи Господа, хлопотала за неё её свекровь Настасья Степановна, выспрашивая любимой невестке здоровья и многие лета. И правда: Катерина в больнице лежала и всего-то один раз, только когда рожала младшую, Оленьку, а старших – по старинке, в бане. Уже незадолго до смерти говорила сыну Кольке:
– По сердцу-то я ещё поживу на свете, крепкое у меня сердце – не подведёт. Вот глазыньки стали видеть худо, да недослышу – кричать нада…
И умерла в твёрдой памяти: вроде заснула страдалица, да так и не проснулась. Тихо сошла в иной мир – к свекрови, Капитону, умершим ранее деткам – дочери Галине и сынку Михаилу.
Красиво носить свое тело – талант такой же, как рисовать или писать стихи. Большой талант для женщины, но еще больший – для мужчины.
А здесь – старик. Бог знает, сколько ему было лет, когда появился на наших совхозных задворках. И откуда появился – не видали. Знаю только, что долго не приглядывались, а приняли сразу. Как своего, будто многие годы ходил по нашим неметеным улицам, топтал тротуары, околачивался там, где было особенно людно: у клуба, на стадионе, в мастерских.
Худощавый, сутуловатый, но легкий и симпатичный, двигался навстречу всякому, склонив породистую стариковскую голову то к одному плечу, то к другому.
После принятого в наших местах обязательного рукопожатия говорил со свойственной ему хрипотцой в голосе:
– Иду вот куды ноги несут…
– Со старухой своей небось поскандалил, выпил небось вчера лишнего? – не зная как завязать беседу, ронял первое, пришедшее на ум, встреченный им мужик.
Подобное предположение могло прийти на ум не случайно, потому как дед Пчело (а так звали старика и под таким именем помнят до сих пор), появившись в совхозе, в считанные дни сошелся с одной из самых сварливых во всем околотке старушонок. А коли баба сварлива, то мужик непременно «должон закладывать за воротник» – так, по крайней мере, предполагалось по существующей в мире логике вещей.