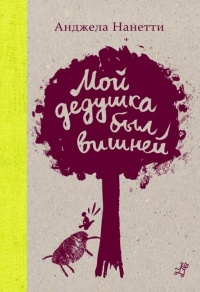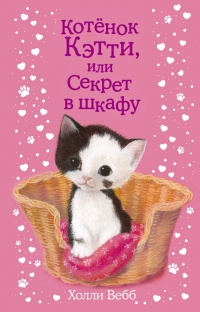Книга Образование Маленького Дерева - Форрест Картер
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Дедушка не жалел о потраченных деньгах. Он сказал, что всегда хотел иметь такой словарь. Так как он не мог прочитать ни слова из того, что в нем было написано, я подозревал, что у него было на уме какое-то другое применение, но я никогда не видел, чтобы он к нему притрагивался.
Приходил Билли Сосна. Когда поспели арбузы, он стал приходить чаще. Билли Сосна любил арбузы. Он ни капли не зазнался ни от денег, которые получил от табачной компании Ред Игл, ни от награды за поимку преступника из большого города. Он никогда не упоминал об этом, и поэтому мы никогда не спрашивали.
Билли Сосна говорил, что, как он понимает, мир приближается к концу. Он говорил, на это указывают все признаки: ходят слухи о войне, и по всей стране голод; банки по большей части закрыты, а те, которые еще не закрыты, то и дело грабят. Билли Сосна говорил, нигде и никак нельзя заработать денег. Он говорил, люди в больших городах, когда на них найдет стих, все прыгают из окон; а в Оклахоме землю выдувает ветром.
Мы знали об этом. Бабушка писала нашим родственникам в Нациях (мы всегда назвали Оклахому Нациями, как было предназначено, пока ее не отняли у индейцев и не сделали штатом). Нам рассказывали об этом в письмах: как белый человек разворотил плугом степи, которые нельзя было вспахивать. Теперь землю выдувало ветром.
Билли Сосна сказал, что, раз мир все равно подходит к концу, он решил спастись. Он сказал, что его самым большим препятствием к спасению всегда было любодеяние. Он говорил, что любодействует на танцах, где играет, но возлагал большую часть вины на девушек. Он говорил, они никогда не оставляют его в покое. Он говорил, он пытается ходить на встречи у благодатных кущей — чтобы, значит, спастись, — но и там всегда вертятся девушки, которые так и подбивают его к любодеянию. Он сказал, что нашел старого проповедника, который, по всякой видимости, слишком стар, чтобы любодействовать, потому что он заведует благодатными кущами и проповедует против любодеяния так, что зубы сводит.
Билли Сосна сказал, этот старый проповедник заставляет так себя почувствовать — пока, значит, говорит, — что ты готов отказаться от любодеяния начисто. Билли Сосна сказал, чтобы спастись, только-то и нужно, что чувствовать себя так все время. Он сказал, что непременно спасется — мир-то подходит к концу, и всякая всячина в этом роде. А если ты спасен единожды, как верят примитивные баптисты, то спасен навсегда. Если после этого ты все-таки оступишься и полюбодействуешь самую малость, то все равно остаешься спасенным, и, вполне может быть, тебе не о чем беспокоиться.
Билли Сосна сказал, что в плане религии склоняется на сторону примитивного баптизма. Что показалось мне разумным.
Тем летом, когда начинало смеркаться, Билли Сосна брал скрипку и играл. Может быть, это было оттого, что мир подходил к концу, но его музыка была грустной.
Она заставляла вас чувствовать, будто это лето последнее, будто оно уже прошло, но вам хочется, чтобы оно вернулось, — и так все время. Вам хотелось, чтобы он не начинал играть, потому что от его игры становилось больно — но потом вы надеялись, что он не остановится. Это было одиноко.
Каждое воскресенье мы ходили в церковь. Мы шли по той же тропе, по которой мы с дедушкой доставляли продукт, потому что церковь была на милю дальше магазина на перекрестке.
Мы должны были выходить до рассвета, потому что идти было далеко. Дедушка надевал свой черный костюм и холщовую рубашку, которую бабушка отбелила добела. У меня тоже была такая рубашка, и я одевался во все чистое. Собираясь в церковь, мы с дедушкой для приличия застегивали на рубашках верхнюю пуговицу.
Дедушка надевал черные туфли, смазанные для блеска жиром. Туфли стучали, когда он в них ходил. Он привык к мокасинам. Мне кажется, дедушка получал от этой прогулки мало радости, но он никогда ничего не говорил, — только стучал туфлями.
Нам с бабушкой было легче. Мы надевали мокасины. Я гордился тем, как выглядела бабушка. Каждое воскресенье она надевала платье, и оно было оранжевое с золотом, с голубым и красным. Юбка доходила ей до щиколоток и окутывала ее, как гриб. Она была похожа на весенний цветок, плывущий по тропе.
Если бы не это платье и не то, как бабушка радовалась выходам в свет, я подозреваю, дедушка никогда не ходил бы в церковь. Даже если не считать туфель, он никогда особо не увлекался душеспасением.
Дедушка говорил, все-таки проповедник и дьяконы, как ни посмотри, держат религию в ежовых рукавицах. Он говорил, они определяют, кто попадет в ад, а кто нет, и если зазеваться, то вскоре, чего доброго, начнешь поклоняться проповеднику и дьяконам. Так что, говорил он, провались оно ко всем чертям. Но он никогда не жаловался.
Мне нравилась дорога в церковь. Не нужно было нести груз продукта, и когда мы шли по короткой тропе, впереди занимался день. Внизу, в долине, роса сверкала в утренних лучах, и солнце разрисовывало землю у нас под ногами силуэтами ветвей.
Церковь стояла в стороне от дороги, на поляне среди леса. Она была маленькая и некрашеная, но опрятная. Каждое воскресенье, когда мы выходили на церковную поляну, бабушка останавливалась, чтобы поговорить с женщинами; но мы с дедушкой сразу подходили к Джону Иве.
Он всегда стоял в глубине деревьев, в стороне от толпы и церкви. Он был старше дедушки, такой же высокий — чистокровный чероки с длинными, заплетенными в косы волосами, падавшими ниже плеч, в шляпе с плоскими полями, надвинутой на глаза… будто глаза были тайной. Когда он смотрел на вас, вы понимали, почему.
Его глаза были как черные открытые раны; не гневные — мертвые, опустошенные и безжизненные. Нельзя было понять, затуманены ли это глаза Джона Ивы, или он смотрит сквозь вас во что-то туманное вдалеке. Однажды в последующие годы один апач показал мне фотографию старика. Это был Гокхла-йех, Джеронимо. У него были глаза Джона Ивы.
Джону Иве было больше восьмидесяти лет. Дедушка говорил, что когда-то давно Джон Ива ушел в Нации. Он шел по горам пешком и не пожелал ехать в машине или на поезде. Его не было три года, потом он вернулся; но он ничего не рассказывал. Он говорил только, что в Нациях нет Наций.
И вот мы всегда подходили к Джону Иве, который стоял в стороне, среди деревьев. Дедушка и Джон Ива обнимались и долго стояли, обнявшись, — два высоких старика в больших шляпах, — и они ничего не говорили. Потом подходила бабушка, и Джон Ива наклонялся к ней, и они тоже долго обнимали друг друга.
Джон Ива жил далеко в горах, с противоположной от нас стороны, и поэтому церковь, приходясь примерно на полпути между нами, была хорошим местом для встречи.
Может быть, дети понимают. Я сказал Джону Иве, что довольно скоро чероки будет очень много. Я сказал ему, что я сам буду чероки; что, как сказала бабушка, по воле природы я родился ребенком гор и чувствую деревья. Джон Ива коснулся моего плеча, и в глубине его глаз появилось мерцание. Бабушка сказала, что он выглядел так в первый раз за много лет.