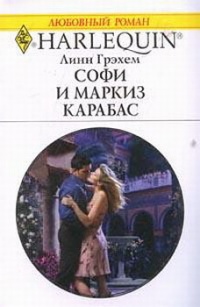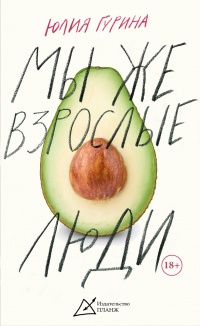Книга Гипнотизер - Андреас Требаль
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Фредерик опрокинул рюмку, будто в ней был не коньяк, а водка, и удовлетворенно провел пальцами по бородке. Лицо его было омертвелым, неподвижным, словно из камня, а вот губы на нем жили. Мне показалось, он собрался рассказать мне о чем-то, что до сих пор утаивал. Меня разобрало любопытство, и я подлил ему еще спиртного. Перед этим я велел принести нам полбутылки, и не только потому, что мне хотелось наслушаться баек Фредерика, а потому, что коньяк в тот вечер действовал на меня особенно благотворно. Фредерику было пятьдесят два, как он признался, он был фельдфебелем в отставке, получал пенсию и немного занимался сельским хозяйством. Обожал свою Софи. Два года назад он взял ее в жены, когда она овдовела после смерти родного брата Фредерика.
— Вот это был настоящий крестьянин. А вот Софи — создание слишком нежное для крестьянина. Таким только денежки на булавки подавай да дай посидеть у зеркала — все прихорашиваются да прихорашиваются. Так что Пьеру самому все приходилось делать. Вот он и надорвался. Как-то подоил корову, и стало ему не по себе, а потом тут же в коровнике и упал замертво. Детей у них с Пьером не было. Зато у меня их двое — если не считать, что сейчас Софи в положении. Эх, платьице мировое, конечно! Посмотрел бы я на Софи в нем — настоящая парижанка. Дама. Но если хорошо подумать — ведь это, почитай, целых пять сотен франков. Разве мне такую сумму осилить даже за зиму? Ни за что! И потом, в таком наряде непременно нужно прокатиться в открытом экипаже по бульварам, да и общества у нас подходящего нет. А в театрах мы и были-то с ней считанные разы. Так что ничего страшного — нет так нет. Но иной раз помечтать не вредно.
— Фредерик, я вот что хотел сказать. Я не уверен, к чему именно этот ценник относился, то ли к платью, то ли к меховой муфточке. Мне все же сдается, что платье стоит куда больше, не верится, что такое купишь всего за пятьсот франков.
Фредерик хлопнул кулаком по стойке, но беззлобно. В глазах его светилось довольство, облизываясь, он явно предвкушал следующую рюмочку коньяку. Я тут же наполнил ее — общество этого человека помогало мне избавиться от ужаса сегодняшнего концерта. Мне пришло в голову, что судьбе было угодно в тот вечер подбросить мне этого ветерана, как в свое время Мари Боне, — с каждой выпитой рюмкой рассуждения Фредерика становились все глубокомысленнее. Когда он ударился в воспоминания о казнях на бесчисленных эшафотах в эру Робеспьера, я понял, что передо мной сидит самый настоящий философ. И чем больше он мне рассказывал, тем более впечатляли меня его истории.
— Однажды мне пришлось побывать и на площади Революции. Это было весной 1794 года. До этого, 19 декабря 1793 года, их величество, тогда еще капитан артиллерии, с генералом Дюгомье отбили у испанцев и других предателей революции Тулон. Вот это была канонада! Позже мой батальон поступил в распоряжение генерала Журдана, это было уже на Маасе, и мы в июне 94-го в Бельгии крепко поддали австриякам и пруссакам у Флёрю.
В тоне Филиппа послышались характерные для военного человека нотки — гордость от сопричастности и вместе с тем стремление к военной точности. Но когда он перешел к изложению массовых казней, тон его стал раздумчивым. Рассказывая о гильотине, Фредерик сравнивал головы приговоренных с крупными стеблями спаржи. Разница лишь в том, мол, что спаржу подрезают снизу, а тут приходилось сверху — а по сути это ведь одно и то же, речь ведь шла о подравнивании. Ведь все без исключения революционеры пуще моровой язвы боятся личностей нестандартных, выделяющихся в серой и безликой массе: в первую очередь представителей дворянства, ученых, лиц духовного сословия, людей искусства и ораторов.
— Самые отъявленные якобинцы требовали ни много ни мало, как снести все церковные здания — мол, они, возвышаясь над остальными зданиями, нарушают картину однообразия и, стало быть, равенства. То же самое и люди. Чем больше голов с плеч, тем единообразнее оставшиеся массы. Да, для подобных Робеспьеру люди — все равно что спаржа, если стебель слишком длинный, стало быть, укоротить, и дело с концом. Разум и души только и были настроены на égalite. Подкорнать, уравнять. Палачи отличались общительностью. Как сейчас вижу их: сама вежливость, и это когда тебя приволокли на гильотину и говорят: пожалуйста, устраивайтесь поудобнее! Потом их привязывали к ней, причем так, что снаружи оставались только голова да шея. А потом эти людские бутерброды укладывались в особые штабеля тут же, у злодейской машины. Смотреть на это сил не было. Ни дать ни взять хлебы перед посадкой в печь! Тела скованы веревкой, а головы вертятся туда-сюда! И лица у всех, как у детей, отбившихся от матери в чужом городе. А потом команда: первый хлеб сюда, сверху пригнетать доской, три секунды молитва, и все — нож вниз!
Да, денечки были великие, что и говорить. А головы их, они чувствовали боль, чувствовали, бьюсь об заклад, что это так, — когда они отлетали, на лицах была боль, ужас и боль. Но, месье, я вот что хочу сказать: Робеспьер ничего, кроме эшафота, не видел и не понимал. Но ведь и у каждого из нас в башке свой пузырь — у Робеспьера был свой. Взять, скажем, бедняка, тот ведь, кроме замызганных стен конуры, где живет, ничего не видит. Бедняк, он и есть бедняк, поэтому и видит вокруг одну только бедность, гнет да отчаяние. Он понимает, что он бедняк и таким и подохнет. И мозги его работают по-бедняцки. И с богачами дело обстоит так же! В его мозгах жизнь — это дворец, всякие там светильники, финтифлюшки хрустальные, все в них играет, отражается. Каждый зависит от жизни своей, он — раб своих представлений, уготованных ему судьбой.
Мы понимаем, что мы — пленники. И каждый стремится заполучить и заиметь свое «Я», неповторимое. Нет-нет, такого же самого «Я», как у соседа, ему и задарма не нужно. Я — это я, гордо колотит он себя кулаком в грудь, и мое «Я» другому никак не подойдет. Они — масса и таковыми по возможности пусть и останутся, иначе накрылось бы мое собственное «Я». И поэтому люди отгрохали вон какие пирамиды, выдумали гильотину и паровую машину, поэтому они малюют картины, сочиняют стихи, музыку, изобретают моду и всякие там состязания. И все это ради спасения своего «Я». И наивысшее есть то, что мы размножаемся, воспроизводим себя. Обзаводимся детьми, ведь именно мы и есть то средство, с помощью которого мы думаем избежать этого проклятого пузыря в наших головах, но он благополучно передается по наследству.
По-хозяйски ухватив бутылку, Фредерик разлил остатки коньяка по рюмкам. Кафе опустело, оставалось еще человека четыре. Гарсон собирал со стола посуду, позвякивали стаканы, рюмки, пахло свечным нагаром.
Я сладко потянулся — все мои физические недомогания как рукой сняло. Вероятно, так же чувствовала себя и Мари Боне, когда я выводил ее из транса, мелькнула мысль, и у меня от нее будто крылья отросли. На сердце стало легче, я с наслаждением сбросил с плеч досадный груз воспоминаний. И не важно было, прав этот Фредерик или нет, важно было то, что я обретал уверенность в своих силах. Я с удовольствием допил остававшийся в рюмке коньяк и от избытка чувств готов был расколошматить пустую рюмку о стену. «Нет-нет, ты еще кое-чего да стоишь», — подсказывал мне внутренний голос, и я готов был разомлеть от осознания этого.
«Твой дар уникален! И — Бог тому свидетель — настало время использовать его по назначению. Зарабатывай деньги! Помогай больным! Окружи себя женщинами! Ты ведь Петрус, гипнотизер Петрус! Отец избрал для тебя это имя потому, что хотел видеть тебя твердым как скала. Отбрось от себя дурные воспоминания, всю эту гниль и труху и стань с завтрашнего дня непоколебим, как первый епископ Рима за тысячу лет до тебя!»