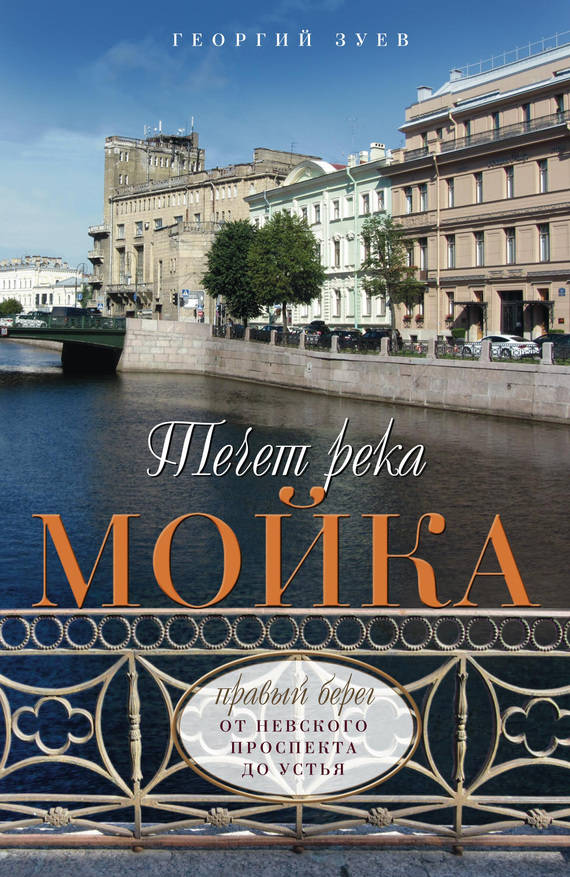Книга Год на Севере - Сергей Васильевич Максимов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— А вон гляди, этот остров, — продолжал мой кормщик тогда, как выровнялась новая гранитная скала, несколько большая против других соседних. — Ехали наши ребята на карбасе три человека: богомольцев везли к угодникам. С ними женок штук до пяти было — и все тут. А на ту пору у нас этот аглечкой-то бродил, да обиды всякие делал. Едут вот наши ребята едут, наугад, авось-де со врагом с супостатом и не встретимся, и проедем, и св. угодникам молитву воздадим. Ладно, с тем, стало, и едут. Ан глядь-поглядь из-за одной луды в Кильяках словно бы дымок показался. Стали всматриваться — дымок и есть. Наши ребята этак взяли в сторонку рулем и стали заходить правее за луду: там-де встанем, переждем на лютый час, пусть погуляют, проедут. Ружья у них и были, пожалуй, так вишь женского-то полу набралось — дери их горой! Ну вот, хорошо! Слушайте! Обогнули наши молодцы луду ту: пристали. На гору подниматься стали, поднялись — посмотрим, мол, далеко ли супостаты. А они тут и есть под горкой: кто в растяжку, кто стоя, трубочки покуривают, кто как... Насчитали наши ихнова народу надобыть, сказывали, человек до 30. Как, слышь, увидали наших на горе, взболоболькали по-своему, да как кинутся под гору назад, так слышь, только пятки засверкали. А нашим-то и любо, стоят да глядят, что дальше будет. Бегут аглечкие к шлюпке — отчаливать тормошатся, весла хватают... Один оступился в воду попал — что бык взревел! Так и удрали, так и удрали на свой пароход. Наши после них пистолет нашли, цыгаров, спичек хороших таких, ни одна не пропала, а горела, что тебе восковая свечка... Таково-то хорошо, ей-богу!..
Нам завязалось поветерье. Карбас, несколько накренившись набок, бежал довольно спешно, бойко рассекая не сильные, но частые волны. Мы продолжали ехать между островами, оканчивая то тридцативерстное пространство, которое занято ими, начиная от устья реки Кеми. Остальные тридцать верст (изо всех шестидесяти от города до монастыря) идут уже полым, по здешнему, т. е. открытым, свободным от всяких островов морем.
Хорошо было сидеть мне в чистеньком, таможенном карбасе, предложенном мне предупредительностью доброго кемского городничего. Род каюты, навес над кормой, сделанный наподобие кибитки, обит был зеленым сукном, тем же сукном обиты были и скамейки по сторонам. На полу подостлана была шкура белого медведя, мягкая, удобная для лежания и сидения. Навес не угрожал ударами по голове, как во всех других поморских карбасах, лаженных кое-как, только бы сошло дело с рук. Там сквозной ветер дует безнаказанно, там от дождя навесы не спасают и всегда одолевает одуряющий запах трески, которой запасаются девки-гребцы. Здесь на этот раз ничего из подобного не было; даже и женщин-гребцов заменили на этот раз 6 мужиков, сильных на руках, бойких и острых на язык. Они подобрали весла и, по обычаю всех архангельских поморов, тотчас же принялись за еду. Несутся в мою будку отрывки их разговоров.
Один сообщает прочим, что он вот уже пятый раз в нынешний год ездит в монастырь и съездит, может быть, еще четыре раза.
— Чего ж больно так разохотился? — спрашивает его другой гребец. Али весело очень, в привычку вошел?
— И в привычку вошел, и усердие имею: я и в за прошедший год два раза был там, хоть и аглечкой бродил — небось, не побоялся. Я ведь более по портному делу, на монастырских работников жилетки шью: любят очень. Поживешь на острову три дни положенных, жилеток до пяти и обработаешь. А деньги особь и за греблю, и за шитье получу — вдвое, стало быть, в барышах и бываю...
— Стало, тебе там и помолиться некогда?
— Какая уж тут тебе молитва? Известное дело!
Слышатся новые толки. Тот же портной сообщает товарищам, что монастырь выставляет бочку дегтя даровую для того, чтобы богомольцы могли смазывать свои сапоги.
— А велят ли сапоги то мазать? — робко, сдержанным голосом опросила его кемская женка, упросившая нас взять ее с собой.
Портной посмотрел ей на ноги: баба была в сапогах.
— Да хоть голову мажьте, коли усердие есть! — отвечал он ей и набил трубочку, коротенькую, прожженную и окуренную до безобразия и постоянной воркотни.
Почуялся прогорклый, неприятный запах махорки. Портной высосал трубку в два приема и очумел, вытаращив глаза, которые на этот раз сделались какими-то оловянными и бессмысленными. Вероятно, в это время он испытывал неземное наслаждение, потому что улыбка, до того времени не сходившая с его лица, на этот раз сияла полнейшей, двойной радостью.
— Нечистый вас, братцы, ведает, как это вы в экой дряни смак находите, будь вам пусто! — послышался голос кормщика.
— Да ведь это кому как, Гервасей Стефеич. Иной, пожалуй, вон из одной-то чашки с тобой и пить не станет, а все свою носит. Так-то!
— Да ведь из головы блудницы зелье-то это поганое выросло, — заметил было кормщик грубо-сердитым тоном.
— Это, брат Гервасей Стефеич, по книгам ведь. А по мне, коли водки в кабаке выпить захочешь, в артельной чарке она навсегда слаще бывает. Я не брезглив: по мне, коли водку пить, так и из ошметка хорошее дело. Верь ты моему слову нелестному!..
Кормщик замолчал на убеждения соперника. Но не молчал этот:
— Ты это знай, Гервасей Стефеич, что табак бодрости придает: в нем сила... Ты посмотри — вон, и его высокородие сигарочку закурил. Стало, это хорошо: вон оно што!..
Кормщик хранил уже после того упорное молчание.
Остряк заглянул ко мне в будку:
— Ваше высокородие!
— Что хочешь сказать?
— Вот вы теперича изволите в обитель преподобных в первый раз ехать?
— Да.
— А знаете ли, какие там дивные дела случаются?
— Нет, не все знаю.
— На зиму, изволите видеть, месяцев на восемь острова Соловецкие совсем запирает: на них тогда ни входу, ни выезду не бывает во все это время. Сначала мутят море бури такие, что и смелый и умелый не суется. Попробовал архимандрит за почтой в Кемь послать — все потонули. С октября месяца у берегов припаи ледяные делаются. Так ли, братцы?
— Припаи верст на пять бывают от берега, — подтвердил кто-то.
—