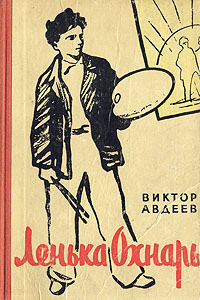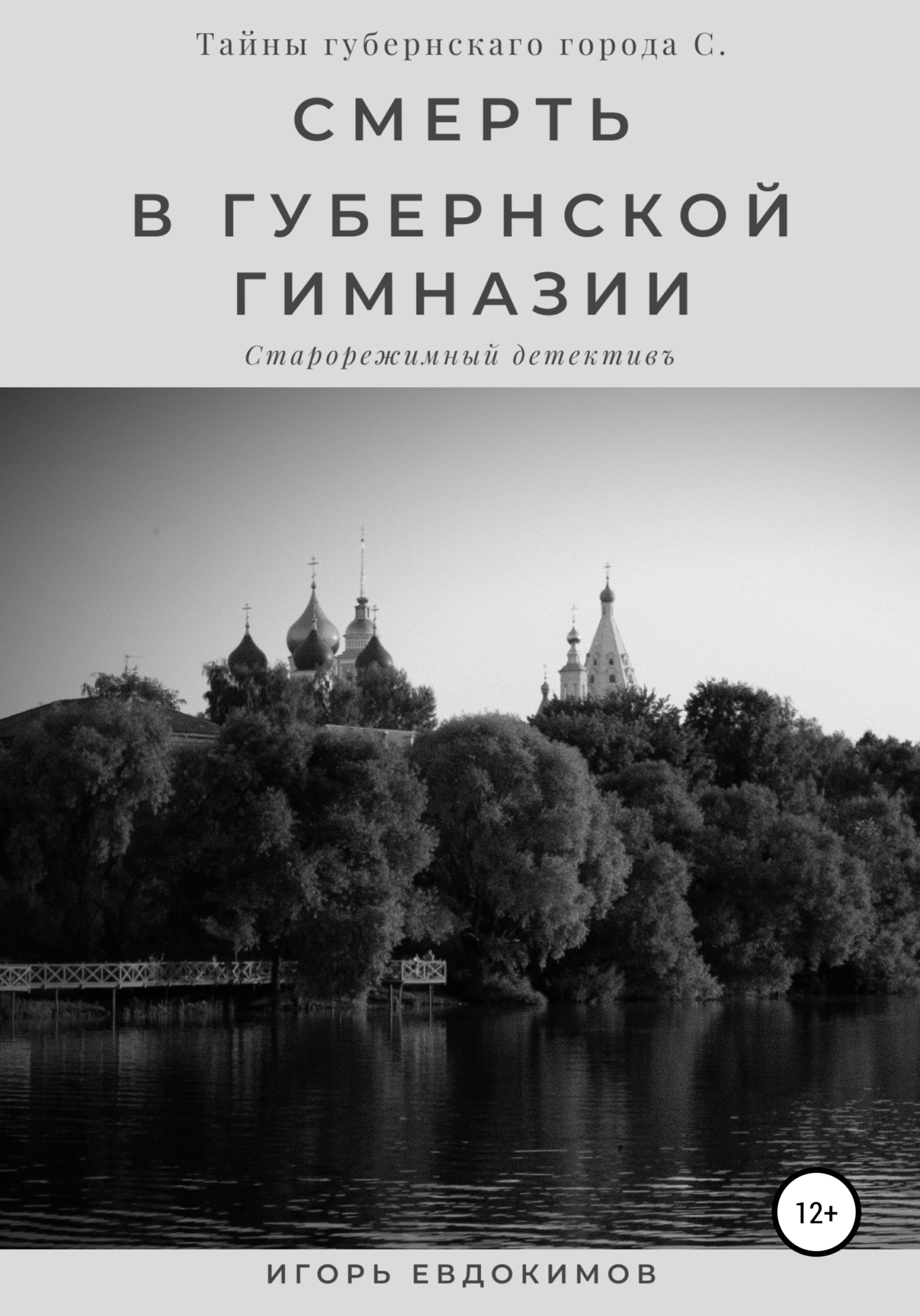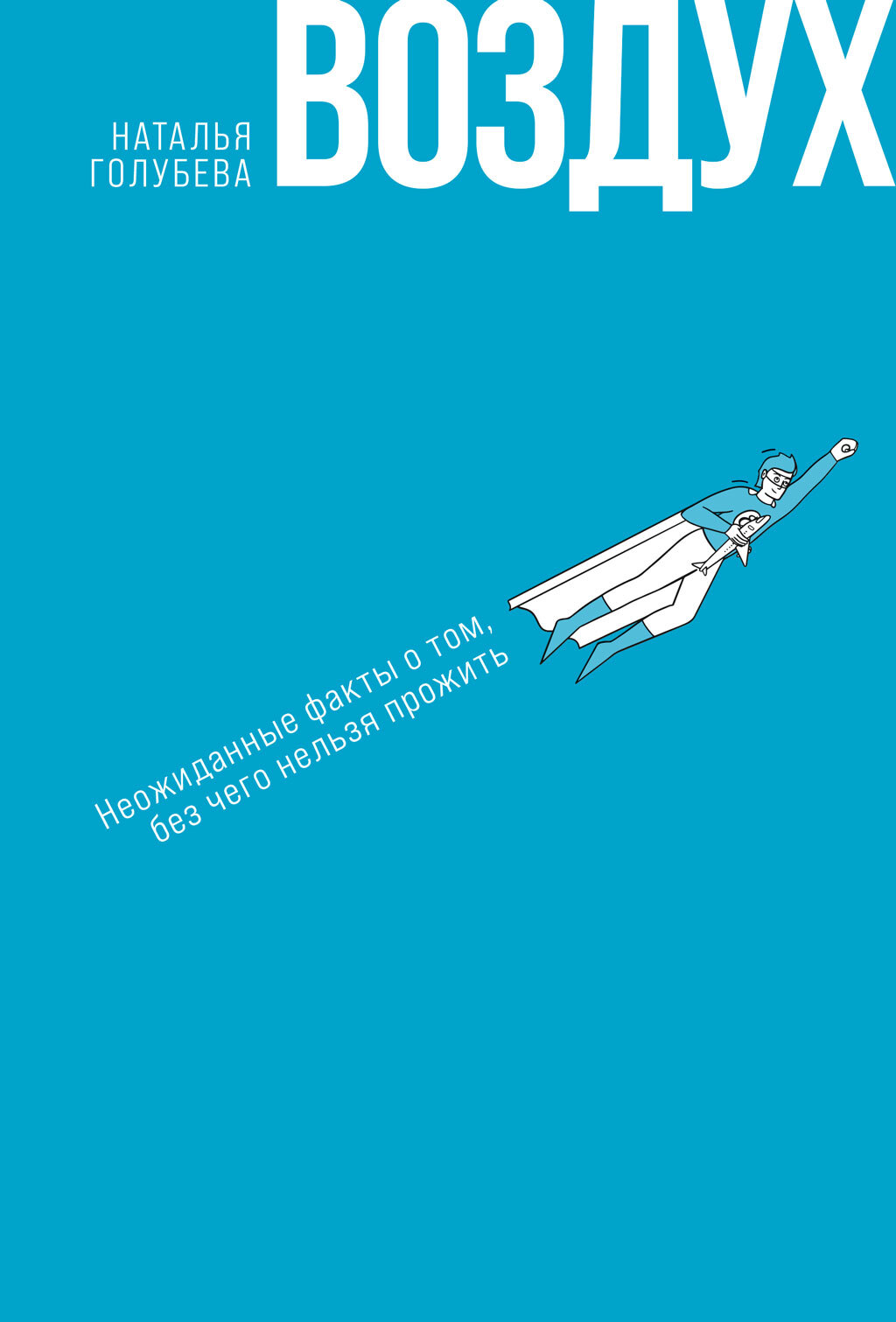Книга «Зайцем» на Парнас - Виктор Федорович Авдеев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Вечером, бродя по Никитскому бульвару и высматривая скамейку для ночлега, я уже не считал себя одиноким. Отступать из Москвы? Ого! Это еще посмотрим. Теперь мне и мильтоны не страшны. Кусать нечего? Тоже плевать. Подтяну ремень на новую дырочку и запросто продержусь неделю.
В субботний день Свирского я застал в дворовом садике. Он сидел на скамейке, в тени липы, возле рыжеволосой девушки в канареечной вязаной кофте. Рядом стояли два парня. Старший по возрасту, плечистый, носатый, азиатски смуглый, в синей капитанской фуражке, улыбнулся мне, словно знакомому:
— Свой в доску и бобка[2] в полоску? — Он крепко пожал мне руку. — Держи пять: Илья Медяков, король блатных поэтов.
Я, робея, назвал свое безвестное имя.
— Нам тебя уже успел нахвалить Алексей Иваныч, — кивнул Медяков на Свирского. — Прозу, донец, пишешь? Будешь нашим Джеком Лондоном.
Лаковый козырек фуражки бросал тень на его жесткий, черный, заботливо выпущенный чубчик, на черные, словно мокрые глаза с крупными желтоватыми белками. Туфли у Медякова были оранжевые, пиджак горчичного цвета надет прямо на матросскую тельняшку, открывавшую загорелую грудь с вытатуированным орлом. Я успокоился за свою застиранную майку: оказывается, и молодые поэты ходят без рубах.
Девушку звали Груня Фолина. Сидела она, заложив ногу за ногу, короткая юбка ее, пожалуй, даже чуть обогнала моду, в накрашенных губах дымилась папироса, но от миловидного лица веяло простодушием. Груня бесцеремонно осмотрела меня, левый глаз ее немного косил.
— Ничего, мальчик, люблю кудрявых, — звонко, вслух определила она. — Вот только отощал, как мартовский котик. Что, Витя, финансы поют романсы? Ничего. Вам, ребята, недолго осталось терпеть: вот кончу поварские курсы, получу на руки столовую, всех «своих» откормлю.
Медяков присвистнул:
— Да мы скоро сами забогатеем. — И, вновь обратясь ко мне, спросил: — Тебе Алексей Иванович говорил, что мы хотим со всех республик собрать творчество «своих» и грохнуть альманах? Посылаем на Капри письмо Максиму Горькому: если старик даст предисловие, дело наше будет, как в сберкассе. Таланты у нас есть такие — салонные писаки закачаются. Да вот слушай, я недавно закончил стихи.
Он отхаркнул, выпятил татуированную грудь и своим хрипловатым голосом начал читать:
Для вора резон — револьвер,
Он отдаст только ножу честь.
Бродит день, другой на воле,
А на третий вновь «зажучат».
Гоп-са, гоп-са, гоп-са, гоп-са,
Попадется, не сорвется.
«Эх, сколько бы я, мальчик, не сидел,
Не было минутки, чтоб не пел».
Допоешься до луны[3],
Пропадешь за ноль цены[4].
— Здорово, донец? Не хуже «метров» пишем!
Я почувствовал себя в литературной среде: какие таланты! Вот он, Парнас! Оказывается, и наш брат обитатель панели имеет на него доступ? Глядишь, и я вскарабкаюсь! Теперь обойдусь и без Л. Ушкина. Правильно сделал, что приехал в столицу!
Свирский сидел, положив обе руки на массивную трость, тая под густыми крашеными усами легкую улыбку.
— Не приучайтесь, Медяков, считать дичью летящих уток, — сказал он. — Их еще надо подстрелить. А нам с вами необходимо сперва найти издательство, которое согласилось бы выпустить таких… необычных авторов.
— Найдем, — самоуверенно сказал Медяков. И тут же поправился: — Конечно, с вашей помощью.
Чувствовалось, что он любит верховодить, в тени сидеть не охотник.
Свирский кивнул на открытое небо:
— Авдеев ночует в гостинице у господа бога. Не найдется ль у вас для него чего-нибудь поскромнее? Без дождевого «душа»?
— Могу пригласить его в свой отель, — сказал второй паренек, Петро Дятлюк. — У нас ребята на каникулы разъехались, и в общежитии полно свободных коек.
Огромная полосатая кепка до бровей скрывала круглое лицо Дятлюка, так что выглядывали только рыжие короткие ресницы да нос, похожий на кнопку электрического звонка. Роста он был неприметного, с большим ртом и, казалось, весь, вместе с тихой улыбкой, входил в клетчатый пиджак и огромные широкие штаны. В беседе участия он почти не принимал, а когда кто заговаривал, поворачивался к нему ухом, как это делают глуховатые люди.
— Вот и отлично.
От Свирского мы с Дятлюком пошли вместе. На бульваре он спросил:
— Какие у тебя, дружок, отношения с монетой?
— Пока никаких.
— Гм. И я с ней в разводе. Стипендию у нас на литературном рабфаке, к сожалению, выдают только один раз в месяц. Как же нам обмыть знакомство? Видно, придется… подзанять у кого-нибудь?
Посовещавшись, мы решили доброго человека искать тут же у Никитских ворот. Петро огляделся по сторонам, вынул из внутреннего кармана пиджака маленькую книжечку вроде билетной, обыкновенный свисток, сунул мне и объяснил, что надо делать. Я внутренне вздрогнул: идти на аферу? И когда? Почти на пороге вступления в литературу. Однако я не ел больше суток, да и сам не прочь был промочить горло в честь такого высокого знакомства. И наконец, Петро Дятлюк мог подумать, что я струсил.
У бульвара шипя затормозил трамвай. «Не дрейфь», — шепнул мне Дятлюк и слегка подтолкнул к пассажиру, сошедшему с задней площадки. Это был обыкновенный замороченный московский учрежденец, потный, в сбитой набок шляпе, с пузатым портфелем. Я шагнул к нему, пронзительно засвистел в самое ухо, запинаясь, проговорил:
— Гражданин. Я член добровольной бригады, что борется со злостными нарушителями городского транспорта. Вы сошли совершенно не с той площадки и тем нарушили главное постановление нашего Моссовета трудящихся… Придется уплатить три рубля штрафа.
И я оторвал талон от Петькиной книжечки.
Изо всех пор учрежденца полезла пунцовая краска, он начал бормотать, что запаздывает на совещание, а ему еще надо в парикмахерскую, и вдруг вильнул в толпу. Я ухватил его за полу пиджака.
— Пра-ашу не распускать руки! — взметнулся он и полез на меня животом. — А-ну сами предъявите документ, а то, может… знаем таких!
Я зиркнул по сторонам — в какую сторону бежать, — и глаза мои, наверно, стали белыми, как у замерзшего ворона. Но тут пожилая молочница с бидоном усовещивающе бросила учрежденцу:
— Он предъявит, да только не тебе, а в Девятом отделении милиции. Вот отведет, и заплатишь в пятикратном размере.
— Совершенно точно, мамаша, — подтвердил я и незаметно тыльной стороной ладони вытер взмокший лоб.
Этот учрежденец оказался единственным «трудным». За последующие полчаса я несколько раз менялся в лице, но наколотил без малого червонец. Петро, как гусак, вытягивал шею по сторонам, — не подходит ли