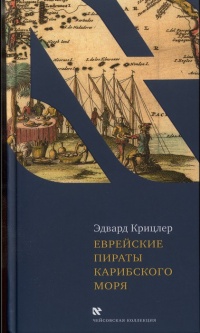Книга Золотая жатва. О том, что происходило вокруг истребления евреев - Ян Гросс
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Скажем о том же иначе: случайно встретившийся поляк-католик во времена оккупации мог пройти мимо, не обращая на еврея внимания; мог в какой-либо форме дать понять, что готов помочь; или, напротив, проявить в отношении еврея какую-либо форму агрессии. Воспоминания выживших евреев подтверждают, что диапазон поведения в таких ситуациях чаще колебался между равнодушием и агрессией, чем между равнодушием и готовностью помочь. Свидетельства тех, которые не оставили воспоминаний, потому что не выжили (и в связи с этим мы не знаем, что они могли бы сказать), наверняка не изменили бы этого впечатления.
У нас нет количественных данных, чтобы выяснить, какой процент жителей давал убежище и помогал евреям, какой стоял в стороне, не марая рук в деле Холокоста, а какой участвовал в грабеже и убийстве евреев. Однако в качестве эпистемологически солидного исходного пункта понимания случившегося, архимедовой точки опоры в понимании эпохи, отсутствие точных подсчетов компенсируется открытием, что отдельные эпизоды и конкретные случаи (каждый из которых по отдельности кажется исключительным эксцессом, а то и невозможным) складываются в общую картину, давая соразмерный образ и образуя связную целостность.
Марии нужно было откуда-нибудь позвонить, и мы вошли в небольшую кондитерскую — она полагала, что там есть телефон. Оказалось, однако, что телефона нет. Тогда она решила, что оставит меня тут на несколько минут одного, купила мне какое-то пирожное, выбрала самый неприметный столик в каком-то темном углу, и сказала, что, как только кончит дело, сразу вернется. То же самое она сказала принимавшей нас женщине — это наверняка была хозяйка. В маленьком помещении стояло не больше пяти столиков, людей было немного, так что я мог слышать всё, что они говорили. Сначала мне казалось, что царит спокойствие, я сидел тихо, как мышь, ждал, как мне было сказано, — и, к счастью, ничего не происходит, я ем свое пирожное, а о чем там судачат женщины (мужчин не было), меня не касается. Но через минуту я не мог не заметить, что дела складываются иначе: трудно было сомневаться, что я оказался в центре внимания. Женщины — может быть, прислуга, а может, посетительницы — обступили хозяйку и что-то ей шептали. При этом они упорно присматривались ко мне. Я был уже достаточно опытным укрывающимся еврейским ребенком, чтобы сразу понять, что это значит и к чему может привести. Уровень моего страха резко возрос.
До меня долетали обрывки разговора, настолько выразительные, что нельзя было сомневаться: это обо мне. Как всегда в таких ситуациях, мне хотелось провалиться под землю. Слышал: «Еврейчик, наверняка еврейчик…»; «Она-то нет, а вот он — еврейчик…»; «Подкинула нам его…» Женщины обсуждали, что со мной делать, , мое положение с минуты на минуту становилось всё хуже.
Утомленные спором и заинтересовавшиеся женщины приблизились, подошли к столику, за которым я сидел. Сначала одна из них спросила, как меня зовут. У меня были фальшивые документы, я заучил мои новые данные — и вежливо ответил. Однако я слышал не только вопросы, которые задавали мне, слышал также комментарии и обмен мнениями, которые дамы произносили в сторонке — как будто тише, только между собой, но так, что до моих ушей это не могло не дойти. Чаще всего повторялось грозное слово «еврейчик», но иногда звучала и самая страшная фраза: «Надо сообщить в полицию». Я понимал, что подать любой знак было равносильно смертному приговору[182].
Катастрофа европейского еврейства состояла, кроме всего прочего, в том, что геноцид, постепенно ставший сущностью нацистской оккупационной политики, получил поддержку, проявляемую разными способами, со стороны населения завоеванных стран:
ни одна социальная группа, ни одно признанное сообщество, ни один академический институт или профессиональное объединение, как в Германии, так и во всей Европе, не заявил о своей поддержке евреев (некоторые христианские церкви вспоминали о новообращенных евреях, заявляя об их принадлежности к общине верующих — это всё). Можно было наблюдать прямо противоположное: движимые алчностью, представители разных социальных групп, в том числе и органов власти, были втянуты в процесс вытеснения евреев, полное уничтожение которых было им на руку. Ни одна из влиятельных групп, способных уравновесить потенциал нацизма и связанных с ним антисемитских политических стратегий, не сделала ничего, что могло бы не допустить им развиться до крайних пределов [выделено автором. — Я.Г.][183].
Потому-то разграбление еврейской собственности во время Второй мировой войны стало общим опытом всей Европы. От Днепра и до Ла-Манша, Салоник или Корфу ни один общественный класс не устоял перед искушением. И если спросить, что общего между швейцарским банкиром и польским крестьянином, — кроме того, что оба они люди и имеют бессмертную душу, — ответ, лишь слегка стилизованный, будет звучать: золотой зуб, вырванный из черепа убитого еврея. Ведь пани из кафе в оккупированной Варшаве, в котором маленький Гловиньский как-то раз пытался съесть пирожное, — «нормальные, обычные, на свой лад храбрые и порядочные женщины, наверняка трудолюбивые, набожные, обладающие гармоничным набором добродетелей»[184], — это наши тети и бабушки, nos semblables (нам подобные), которые поступали в соответствии с принятыми в то время нормами поведения.
Среди фактов и рассказов, приведенных в этой книге, мы упоминали разные места и разных людей, которые были жертвами или соучастниками подобных же страшных событий. Хотя вести о них прошли цензуру или самоцензуру, человек наталкивается на них без конца. Николас Верт приводит слова женщины, соседи которой ходили вырывать золотые зубы у трупов заключенных, брошенных и заморенных голодом на одном из островков советского ГУЛАГа в 1932–1933 гг.[185] Юзеф Мацкевич рассказывает, как в 1945 г. британские офицеры заманили казачьих офицеров, силой загнали их в грузовики и затем выдали на смерть Советам, и при этом ограбили их, предлагая по папиросе в обмен на часы[186].