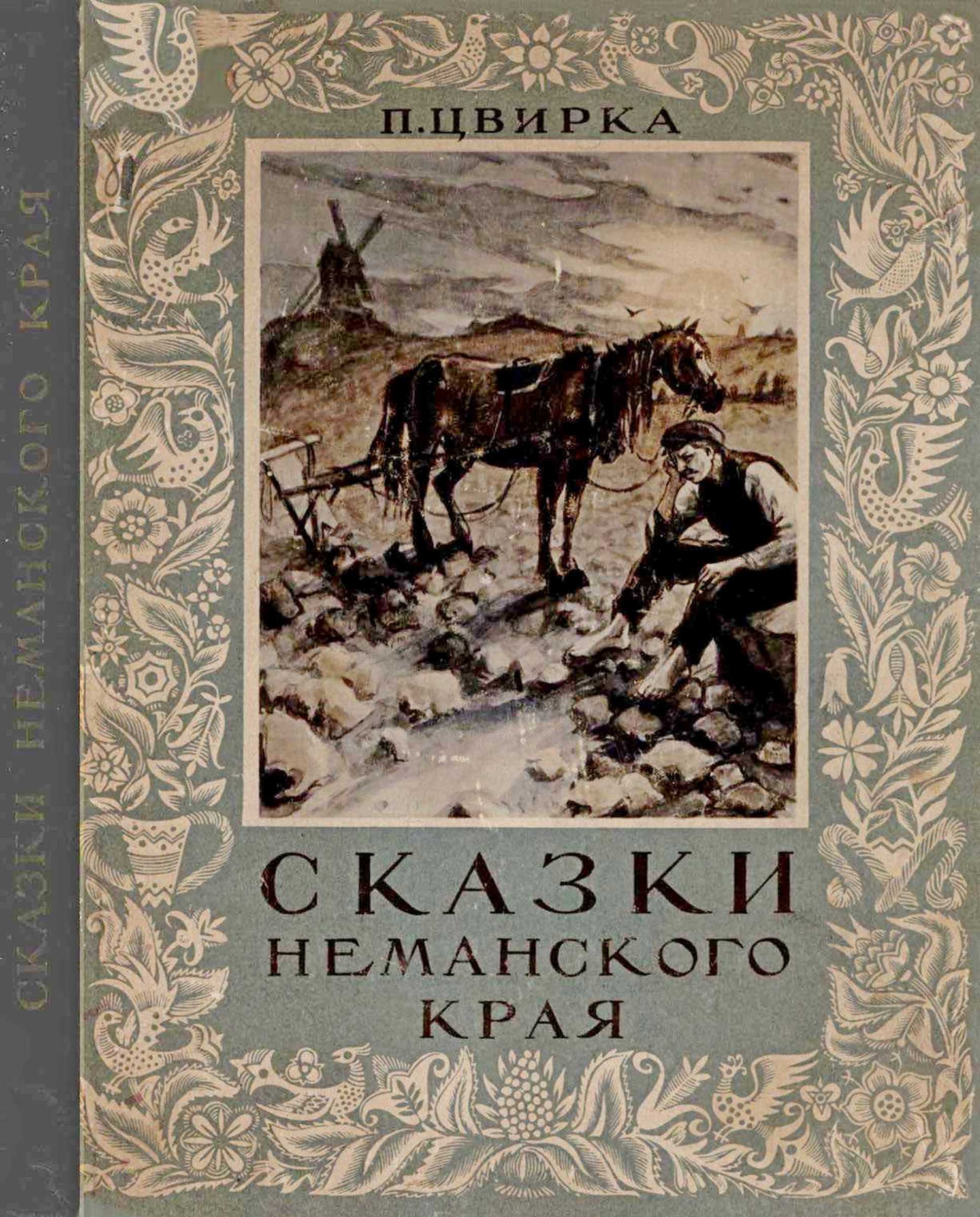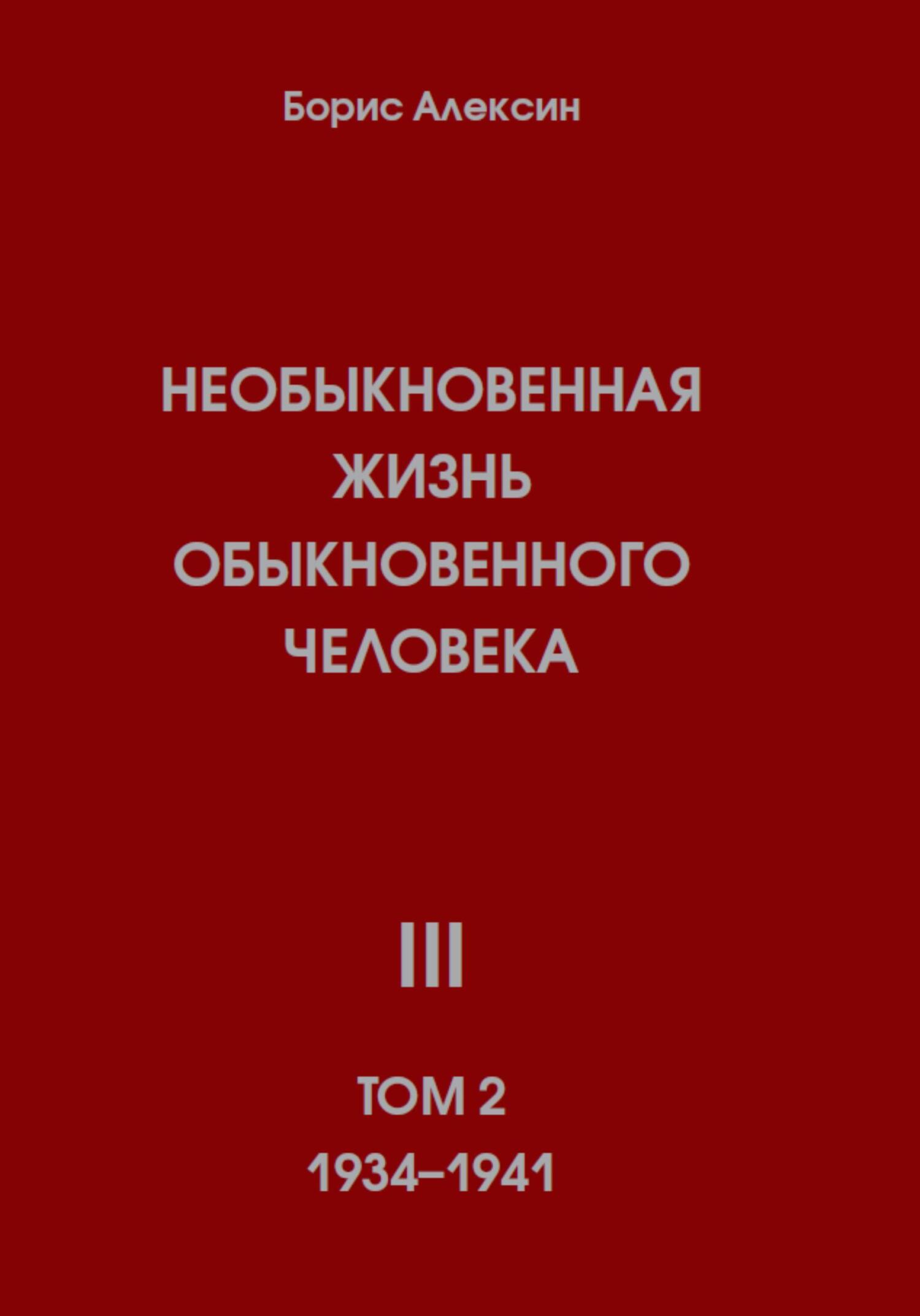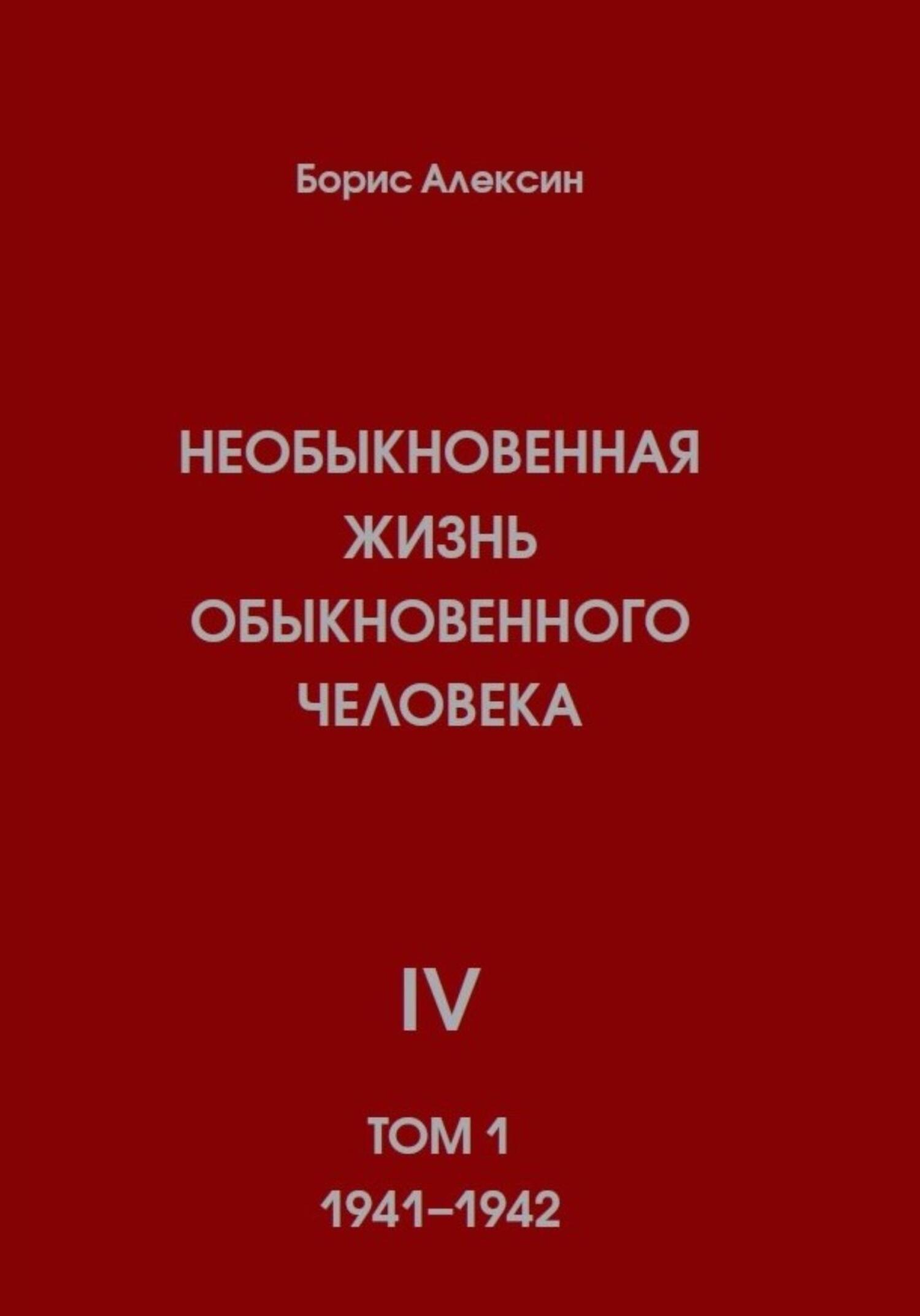Книга Крутые перевалы - Семен Яковлевич Побережник
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Ностальгия — это тоска по родине. Лекарств для ее излечения в природе не существует. Кроме одного: возвращения домой.
Он жаловался, в порыве откровения, что за последнее время совсем лишился покоя. С думами о России — такой теперь далекой и недоступной — ложится спать и с ними встает. Возвращение домой стало уже у него «своего рода навязчивой идеей». Так он сказал почему-то шепотом, хотя в комнате никого, кроме нас, не было.
— Думал, что с годами пройдет тоска, а она усиливается. Как зубная боль. И от нее никуда не денешься. Вот вспомню широкий Дон с зелеными берегами, плакучими ивами и вербами, что смотрятся в прозрачную воду. Вспомню весенний цвет в станичных садах, тихие заводи, где жирует щука и берется жерех или крупный окунь. Вспомню поле с поспевающим житом, с вкрапленными в него синими васильками, лиловым куколем да желтой сурепкой... Верьте, плакать хочется по родным местам! Боюсь, что сойду с ума, если не удастся в ближайшее время получить разрешение на выезд. Все здесь мне осточертело! Тошнит от этой глупой, суматошной жизни, — печально сказал он напоследок, когда мы попрощались.
Сейчас он ехал с нами... Домой в Новочеркасск... Через Пиренейский полуостров...
Наш конечный пункт — Перниньян. Он на самой границе с Испанией.
„Расскажи о себе...“
Когда мы отъехали от Парижа подальше, между членами группы зашел разговор — кому сколько лет. Алексей Эйснер определил, что мне не меньше тридцати пяти. А другой волонтер — Николай Иванов, уверенно сказал, что мне все сорок с гаком... И когда я сообщил, что мне только тридцать, Иванов удивленно поднял брови.
— Извини, но ты, респонсабль[7], заливаешь! Не верю! Ведь ты намного старше меня выглядишь, а мне тридцать восемь. Ты что, квелый? Или, может, недоедал в столовке, когда поваром работал?
Я уклончиво ответил:
— Всяко бывало. Да и болезни не обходили меня стороной. А вообще, хлопцы, мой организм особый. Поправке не подвержен. К тому же и на курортах не бывал за последние тридцать лет... Вот в Испании богатые курорты. Отдохнем там...
Поезд по-прежнему не спешил, шел медленно — километров двадцать в час, не больше. Но дым от паровоза все-таки заносило в наш вагон третьего класса. (Кстати, он был довольно грязный, в купе я даже заметил в углу паутину.)
Против меня, справа, сидел на краешке скамьи широкоплечий синеглазый Василий Дмитриев, человек лет сорока пяти. В прошлом моряк. Он не участвовал пока в общем разговоре, держался особняком. Ни на кого ни разу не взглянул, словно чувствуя свою вину перед группой.
Дмитриев опоздал к нашему сбору и чуть ли уже не на ходу поезда садился в вагон. Я сделал ему замечание, напомнил о дисциплине. Еще, мол, не отъехали, не добрались до границы, а уже есть нарушения. Что же будет потом? Сидевший рядом со мной Ганев пытался успокоить меня:
— Не переживай, товарищ респонсабль! Ну, бывает, случается всякое. Вероятно, у него затянулось прощание с дамой сердца. Я, конечно, не оправдываю, но Дмитриев это учтет на дальше. И остальные тоже на ус намотают. Дисциплина, как струнка, будет у всех. Вот увидишь!
Но Ганев, к сожалению, оказался плохим пророком. На следующий день случилось еще одно, совсем неприятное происшествие, о котором расскажу ниже... Пока же в нашем купе — смех. Алеша Эйснер, жестикулируя, рассказывает вполголоса что-то веселое. О чем идет речь — не знаю. Я отлучался в соседний вагон, в котором едет со своей группой другой респонсабль — мой старый друг Пьер Гримм.
Окружившие Алешу ребята из моей группы, собравшиеся в одном купе, довольно громко хохочут. Это меня злит. Ведь мы же говорили о конспирации. Неужто уже забыли об инструктаже? Впрочем, подумал я, в поезде обычно незнакомые люди часто быстро знакомятся, находят общий язык, сходятся, чтобы не так скучно было ехать...
Коль скоро мы теперь едем в одном вагоне, нужно хоть немного узнать друг о друге. К тому же посторонних в купе, где мы собрались, сейчас нет. Еще ни разу не показывался и проводник. Билеты он проверил лишь при посадке, и никто больше нас не тревожит.
Поезд как будто ускоряет ход. Сильнее стучат колеса под полом. На пересечениях, закруглениях пути вагоны заносит, бросает в сторону. Меня прижимает то к соседу справа, то слева. Из окна вагона я вижу уже почти освободившиеся поля — уборка урожая заканчивается, — лишь кое-где еще зеленеют какие-то поздние культуры...
Никакого списка людей у меня нет. Конечно, из тех же соображений конспирации. Ведь мы едем в Испанию, как говорил Ковалев, инкогнито. В лицо я знаю почти всех и даже биографии некоторых. В группе несколько белоэмигрантов. Детьми их вывезли из России родители в гражданскую войну. Теперь мечтают вернуться домой.
Первым скупо говорит о себе волонтер Иван Троян — жилистый человек с крепкой шеей, ровным загаром на грубоватом лице. Говорит не спеша. Из его слов неожиданно выясняется, что он мой земляк. Тоже из Бессарабии. Служил в румынской армии. Очутившись во Франции, последние годы работал на машиностроительном заводе... Военная специальность — пулеметчик.
Так же лаконичен в рассказе о себе и бывший учитель гимназии, преподававший русский язык, Ганев, высокий долговязый человек с открытым добродушным лицом, по национальности болгарин. Он тоже эмигрировал за границу.
Посматривая почему-то все время на курившего трубку крепыша Тимофеева — вчерашнего студента, учившегося в Париже и отлично говорившего по-французски, Ганев продолжал:
— Так вот, друзья, «охота к перемене мест», как вы сами понимаете, была вызвана тогда отнюдь не острой любознательностью данного Песталлоци, — дескать, что делается за пределами великой Российской империи. Удирая, мы больше повторяли не эти слова Пушкина из «Евгения Онегина», а более прозаические, вроде: «Спаси, господи, раба твоего»...
Более обстоятельно рассказал о себе Юнин. Он долго молчал, очевидно, собираясь с мыслями, не зная с чего начать. Когда он окончил свой рассказ, похожий больше на исповедь, я понял, что ему не так-то легко было ворошить прошлое.
Юнин начал с того, что выругал последними словами «злодейку-судьбу», забросившую его на чужбину, «где воздух не наш, и земля не наша, и люди совсем другие».
Действительно, судьба крепко поиздевалась над ним, бедняком крестьянином. По нелепому стечению обстоятельств очутился он вдали от родины, сам того не желая. Рассказывая, как это произошло,