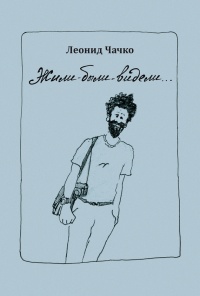Книга Дом над Двиной - Евгения Фрезер
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Бабушка забрала меня к себе в спальню, где я спала двое суток, не раздеваясь, в матросском костюме. Мама строго наказала мне, чтобы я, как только приеду, надела платье, аккуратно уложенное сверху в чемодане. Умытая и переодетая, я вышла в нем из спальни. Платье подарила мне грэнни. Оно было в стиле «шотландской рыбачки» и особо рекомендовалось в то время для маленьких девочек. Широкая голубая саржевая юбка подобрана сбоку так, что было видно нижнюю юбку в белую и голубую полоску. К ней надевалась плотно облегающая шерстяная кофточка, и завершала наряд маленькая шаль с кистями, перекрещивающаяся на груди.
Все сели за стол. Был воскресный день, я помню это потому, что вся еда была приготовлена в русской печке, и еще — белый хлеб, который пекли только по воскресеньям.
Потом все перешли в танцевальный зал. Пока мы жили в Шотландии, мама научила меня нескольким модным песенкам, звучавшим в мюзик-холлах и в спектаклях пантомимы. В связи с этим папа был преисполнен отцовской гордости и в письмах бабушке хвастался моими способностями легко запоминать слова и мелодию.
Последовавшую затем сцену я вспоминаю теперь со стыдом, потому что не терплю, когда дети «работают на публику». Меня просили спеть, и хотя мамы, чтобы аккомпанировать мне, рядом не было, упрашивать не пришлось. С полным самообладанием и беззаботностью я встала посреди зала и исполнила все песни, какие знала: «Дейзи, Дейзи, дай ответ…», «Юп-ай Эдди, ай-эй, ай-эй…», «Жили-были две крошки…». Все это сопровождалось соответствующими жестами, притопами, размахиванием рук и разнообразной мимикой в зависимости от смысла слов и чувств. Мне тепло аплодировали. Репертуар мой был довольно ограничен, но, вдохновленная теплым приемом публики, я продолжала, уже импровизируя, придумывая слова, сообразив, что все равно их никто не поймет, пока бабушка не решила, что хорошего понемножку.
В первые дни меня страшно баловали, мои шалости все переносили с терпеливой любовью, но, к счастью, новизна моего появления скоро испарилась, и меня приняли как младшего члена большого клана: Юра мог меня дразнить, Сережа терпел, а Марга, в зависимости от настроения, то баловала, то гнала прочь.
Мы с Маргой спали в одной комнате. Наши кровати стояли одна напротив другой. Шторы на окнах никогда не задергивались, чтобы можно было видеть звезды, сверкавшие в небе. В дальнем углу висела икона Божией Матери. Перед ней день и ночь горел огонек лампады, навевая умиротворение.
Обычно на ночь бабушка расчесывала мне волосы. На ее туалетном столике стояла фотография, где между мной и братом сидит мама. Однажды я долго смотрела на эту фотографию и вдруг расплакалась. На следующий день фотография исчезла.
Обед всегда подавали в шесть часов, после чего бабушка обычно готовила меня ко сну. Я еще была мала, и мне не разрешалось сидеть с семьей за вечерним чаем. Порой я лежала без сна, слушая голоса из столовой и успокаивающие звуки трещотки ночного сторожа, нарушавшие морозную тишину ночи.
Ночных сторожей нанимали ходить по улицам. Нашу Олонецкую сторожил древний старик. Недалеко от нашего дома, на углу, была маленькая каменная будка, где он укрывался от непогоды. Старик никогда не дежурил один, его повсюду сопровождал наш Скотька. Каждый вечер, перед тем как отправиться в дозор, сторож заходил к нам в дом выпить стакан чая. Я так и вижу его за кухонным столом, в выношенной заплатанной одежде, толстых валенках и побитой молью шапке на седой голове. У его ног терпеливо ждал Скотька. Согревшись, старик медленно вставал.
— Ну вот, пойдем, Скотька.
Скотька шел следом. Всю ночь напролет в любую погоду, в мороз и снег, старый русский крестьянин и его шотландский дружок ходили по пустынной улице. Когда они подходили к дому, старик стучал трещоткой, и она словно говорила: все спокойно, все в порядке.
Рано утром они опять на кухне. Старик пил чай с черным хлебом, отдыхал недолго в теплой кухне и уходил домой, никто не знал куда. А Скотька, превратившийся в ком ледяных игл и звенящих сосулек, исчезал в темном, теплом зеве подпечья и, устроившись рядом с ухватами и кочергами, лежал там, пока снег и лед не образуют вокруг него лужицы. Позже, отдохнувший и голодный, он вылезал и после сытной кормежки снова был готов идти на улицу.
Хотя вначале у меня не было одногодков, с которыми я могла бы играть, я никогда не ощущала одиночества. В доме каждый день что-нибудь происходило. Кроме того, постоянно приходили друзья и родственники. Ворота, ведущие во двор с Олонецкой улицы, были неподалеку от кухонной двери. Звонка или молоточка на двери не было, поэтому гости шли прямо через кухню, вверх по лестнице, в заднюю прихожую. Парадным ходом пользовались только по особым случаям и незнакомые люди. Когда у парадного крыльца звенел колокольчик, горничная спешила открыть дверь, а нас всех одолевало любопытство, и даже бабушка выглядывала из столовой поинтересоваться, кто бы это мог быть.
От всей бабушкиной семьи теперь остались три брата и сестра. Тетю Пику я уже описала, она и бабушка были очень привязаны друг к другу. Их часто можно было видеть вместе за круглым столом в детской за долгими разговорами. Пока бабушка, окруженная коробочками, красками и кисточками, занималась своим любимым делом — изготовлением искусственных цветов, тетя Пика сидела без дела, покуривая одну за другой свои папироски.
Братья были совершенно разные и внешне, и характером. Их жизнь, особенно если сравнить ее с жизнью моих степенных друзей в Шотландии, можно назвать необычной. Младшего брата, Владимира, я всегда видела мирно сидящим на деревянной скамейке в задней прихожей, где висела наша уличная одежда. После прогулок я садилась рядом с ним, чтобы снять валенки. «Здравствуй, Женечка», — неизменно приветствовал он меня с нежной, но какой-то неуверенной улыбкой. «Здравствуй, дядя Володя», — отвечала я на его приветствие, но дальше наш разговор обычно не шел.
Дядя Володя был молчаливый и совершенно безобидный алкоголик, не склонный к разговорам. Проходившие мимо него через прихожую обычно игнорировали его. Он не двигался из своего угла, пока на столе не появлялся полуденный самовар. После этого бабушка брала его под свое крылышко: усаживала рядом и нежно похлопывала по плечу. Когда самовар уносили, вернувшийся в полутрезвое состояние дядя Володя шел в прихожую и медленно, сосредоточенно начинал собираться домой. Жена его давно умерла, детей не было. За ним приглядывал его старый слуга.
Любимцем бабушки был старший брат Иван, дядя Ваня, как его называли, — спокойный, непритязательный человек, которого любили все, кто его знал. Как и его брат Володя, он работал по гражданскому ведомству и, хотя уже много лет был на пенсии, все еще носил выцветшую зеленую шинель государственного служащего. Его длинные седые волосы, лохматая борода и тонко вылепленные черты лица напоминали облик святых, какими их изображали на старых иконах. Дядя Ваня, однако, был обычным смертным. Одно время он жил неподалеку в хорошем доме с женой и двумя маленькими дочерьми, но его счастливая семейная жизнь разбилась вдребезги, когда его жена умерла в родах третьим ребенком. Убитый потерей жены, перед перспективой растить одному троих маленьких детей, дядя Ваня совершенно растерялся.