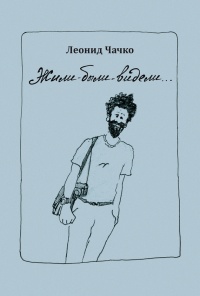Книга Дом над Двиной - Евгения Фрезер
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Приближалось время отъезда отца. Однажды утром Саша с заплаканным лицом пришла к маме. «Барыня, — сказала она, — милая, добрая барыня, пожалуйста, разрешите мне вернуться с барином в Архангельск. Я не могу больше жить в этой стране. Бог свидетель, мне здесь плохо. Пожалуйста, милая барыня, отпустите меня домой!». Как маме было не согласиться?
Две недели спустя Саша уехала вместе с отцом. Мы видели, как весело взбегала она по трапу, в одной руке узелок, в другой — драгоценная шляпка в круглой коробке.
В тот день, когда родился брат, меня, громко протестующую, грэнни увела на пляж Грасси Бич. Я, конечно, этого не помню, однако в памяти жива яркая картинка, когда немного позже меня привели в спальню. Мама сидела в постели, откинувшись на высоко взбитые подушки, а рядом — старинная колыбель. В ней лежало крошечное краснолицее существо, завернутое в шаль. «Это твой маленький брат», — сказала мама.
В Архангельск была отправлена телеграмма с известием, что наконец в семье появился внук. Моего брата назвали в честь отца Германом. Когда брату было шесть недель от роду, его крестили в приходской церкви Святого Стефена, где венчались мои родители. Таким образом он избежал ритуала погружения в купель, но ему все равно предстояло пройти в России помазание.
Мы отплыли из Гулля в начале декабря. Так как Саши теперь не было, чтобы помогать маме в дороге, грэнни решила сопровождать нас до Финляндии, где нас должен был встретить отец. К Рождеству мы надеялись быть в Архангельске.
Весь переход море штормило. И я, и мама были плохими моряками и страшно мучились от постоянной качки. Внизу, под моей койкой, лежала мама, пытавшаяся кормить моего семинедельного брата, который тоже заболел и все время плакал. Лишь грэнни легко переносила качку. Я до сих пор словно наяву вижу маленькую плотную фигурку. Ее бросает на переборку, на мебель, но грэнни спешит к маме или ко мне, пеленает и успокаивает младенца, пытается развеселить свою кислую внучку и заботится обо всех нас. Только теперь, спустя много лет, я понимаю, каким самоотверженным было ее решение пуститься в это путешествие в самое худшее время года, чтобы помочь маме.
Наконец показался заснеженный финский берег. На пирсе нас ждал отец. Передохнув несколько дней у тети Ольги, мы продолжили наш путь в Архангельск, а грэнни на том же судне вернулась в Шотландию.
Когда мы наконец приехали в Архангельск, там стояли морозы. Бабушка, ожидавшая нас на станции Исакогорка, приехала в возке, похожем на ящик, поставленный на полозья и обитый толстым войлоком, с двумя наглухо закрывающимися окошечками. Мы влезли внутрь и завернулись в одеяла и шали.
Приехав домой, мама принесла малыша в бабушкину спальню и, развернув многочисленные шали, положила на кровать. Те, кто ожидал увидеть хорошенького крепкого младенца, были разочарованы. Мой братик был крошечный, болезненный, а путешествие совсем изнурило его. Бледный и грустный, он лежал и апатично глядел на любопытствующие лица, склонявшиеся к нему. Кто-то сзади поднял меня на руки и сказал бестактно: «Наша лучше!». Мама была глубоко задета. Прижав дитя к груди, она с горечью ответила: «Для меня он красавец» — и вышла из спальни.
Мы немного пожили у бабушки, а потом перебрались в свой дом. Через несколько недель братик расцвел, превратившись в прелестного голубоглазого ребенка с золотистыми волосиками. Но так уж повелось со дня нашего приезда, что меня стали называть «наша», а его — «ихний», и так осталось навсегда.
Следующие несколько лет мы много ездили в Шотландию вокруг побережья Норвегии или через Финляндию и Санкт-Петербург. Но когда мне исполнилось пять лет, наступил долгий перерыв, и мои воспоминания о Шотландии стали очень смутными. Запомнилось только самое хорошее: в Шотландии никогда не бывает дождя, там все время цветут розы, на деревьях висят яблоки и по лужайкам прыгают дрозды; трава на Грасси Бич густая и очень зеленая, вода, когда мы ходили купаться, — очень теплая.
Помню, как по воскресеньям к нам приезжали двоюродные сестры и братья со своими родителями: Берти и Мэй, дети моего дяди Эндрю, были немного старше, круглощекая дочка дяди Стефена, Хелен, была ближе мне по возрасту, и я очень любила с ней играть. Это были счастливые встречи, и сейчас, оглядываясь в прошлое, я склонна думать, что мои дедушка и бабушка были очень терпеливы в отношении всех своих внуков.
В жаркие дни чай накрывали в саду. К чаю подавали горячие домашние ячменные лепешки и сдобное печенье. Из кухни приносили клетку с Джоки, и он сидел рядом с нами. Джоки любил солнце и не стесняясь выражал это, растопыривая крылышки, танцуя на одной ноге и болтая громче обычного.
Ярче всего встает перед глазами сцена, когда я и мой братишка, еще в ночных рубашках, сидим майским утром на лужайке, а наша красавица-мама, вся в белом, собирает росу на маленькую губку и протирает ею наши лица. «От этого вы станете краше», — говорит она. А потом тут же, на лужайке, мы едим из маленьких чашек кашу со сливками.
Летом 1911 года мой отец поехал по делам в Германию. В Гамбурге мы снимали меблированный дом. Однажды родители повели нас в зоопарк. День был жаркий и душный. На обратном пути мы попали в сильную грозу и насквозь промокли. Я была в легком ситцевом платье и простудилась, за простудой последовал плеврит. В Россию послали телеграмму, в ней было всего два слова: «Женя гибнет». Много лет спустя бабушка дала мне прочесть эту телеграмму.
Женя, однако, не погибла, хотя наше пребывание в Гамбурге пришлось продлить. Когда я достаточно поправилась, чтобы можно было путешествовать, мы приехали в Санкт-Петербург. Мои родители должны были здесь задержаться на некоторое время, а меня отправили в Архангельск под опекой Пети Емельянова.
В Архангельске меня ждали. Это были юные дяди в черных с высоким воротом мундирах Ломоносовской гимназии: Юра, с рыжеватыми волосами и зелеными глазами, и Сережа, его старший брат, застенчивый и чувствительный; Марга, круглолицая, с огромными глазами под высокими дугами бровей, которые придавали ее лицу слегка удивленное и несколько гордое выражение. Меня обняла тетя Пика, обдав при этом крепким запахом табака. Она давняя курильщица, папиросы и спички носит в маленькой вязаной сумочке на запястье. Здесь же был дядя Саня, брат моего отца, высокий и светловолосый. Он явился, чтобы приветствовать ребенка своего брата, и, наклонившись, расцеловал меня с теплой нежностью в обе щеки. И Сашенька… Хоть я и была мала, но почувствовала что-то странное в этой женщине, в ее причудливой одежде, и испытала облегчение, когда она меня не поцеловала, а лишь пожала руку.
— Мы с тобой, Женечка, — сказала она серьезно, глядя мне в глаза, — должны хорошо поработать.
Она имела в виду, конечно, мой вступительный экзамен в гимназию, к которому взялась меня подготовить.
Среди всех объятий и поцелуев я особенно помню дедушку, огромного человека, который пришел прямо из госпиталя. Он высоко подбросил меня и, поймав на лету, поцеловал. Помню прикосновение его холодной щеки и влажной бороды, свежий запах снега и мороза, которые он принес с собой.