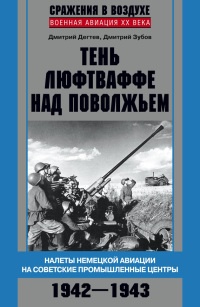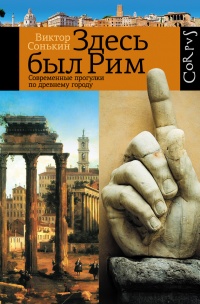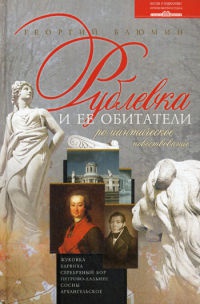Книга Вечная мерзлота - Виктор Ремизов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Может, у меня и правда какая болезнь, Николаич! – предстоящая выпивка и еда расшевелили Шуру, он даже улыбнулся. – Давно не пил, последний раз с ребятами одеколону засосали, одному лейтенанту ремонт сделали, он нам и купил ящичек «Тройного», ребята сами попросили, чтоб одеколону. Не застукают нас здесь?
– Тут нет никого, расскажи по порядку… – Горчаков достал из-под кровати бутылку спирта и стал разводить.
– Хороший ты мужик, Николаич, – Шура следил, как мутнеет спирт. – Я часто тебя вспоминаю. – Он взял папиросу, смял вдумчиво, чиркнул спичкой. – Жизнь во мне кончается, вот что. Раньше я ее чувствовал, во все стороны расплескивал, а теперь… может, и совсем уже кончилась? Такое может быть?
– Ну ладно-ладно, кончилась… – Горчаков вывалил тушенку в кашу и пристроил на печку.
– Меня Иванов на усиленный режим отправил, после нашего лазарета – чистая каторга! Барак весь в решетках, под замком, везде водят строем… Самое поганое, что не знаешь, сколько в этом БУРе сидеть. Могут и год продержать. Я семь месяцев оттянул. Борзый был поначалу, правды добивался… Давай уж, наливай, что ли!
Они выпили.
– Давненько не пробовал… – задохнувшись, сморщился Шура и съел ложку каши. Зубы были темно-коричневые от чифира. – Народ в БУРе разный. В основном урки да такие, как я, кто оперу не понравился. Не работают, пайка триста грамм… прямая дорога на тот свет!
Шура высморкался в руку, вытер о штаны.
– Я бы давно дубу дал, да надзирателя встретил – он в нашей дивизии кашеваром был… Короче, я однажды крепко его выручил, и он меня вспомнил, помогал, даже хлеб носил. А опер тамошний люто ненавидел, я бы лучше назад к Иванову вернулся.
– Ты про Иванова слышал?
– Была параша. Налей еще! Я, Николаич, до конца срока не дотяну.
– Тебе немного осталось! – Горчаков разлил.
– Пять месяцев… В мае сорок пятого взяли старшину разведки под белы руки… обещали орден повесить, а повесили срок! – Шура запьянел, давил челюсти, нервно и зло помаргивал и щурился. – Тоска заедает, Николаич, думаю всякое… все-все поганое про себя вспоминаю. – Он помолчал, затряс головой и снова стиснул зубы. – Сказано – скрежет зубовный! Точно! Кругом я урод, не хочу такой к своим возвращаться. Жизнь моя совсем меня уделала! – Он опять задумался, прищурившись хищно. – На фронте еще хуже было, чем здесь! Столько подлости, сколько на войне, нигде нет! Это только в кино умные да храбрые побеждают, там жестокость побеждает и злоба!
Шура очнулся от дум, посмотрел на Горчакова:
– Ты не смотри так, Николаич, это я сам с собой, на других у меня злости нет. Сам я во всем виноват. Перед многими людьми… К нам одна девчушка прибежала от немцев спасаться, лет шестнадцать, а то и меньше… по-русски ни слова, такая, вроде цыганочки, лопочет что-то… уф-ф, – тяжело выдохнул Шура. – Сколько раз я это дело вспомнил… а вслух не могу! Морда горит от стыда!
Горчаков слушал спокойно, курил.
– А я скажу, я давно тебе хотел… Изнасиловали мы ее, твари! Втроем были в землянке! Всякое бывало, бабы по-разному себя вели, а эта прибежала, кинулась к нам, плачет, что спаслась от немцев, а потом… как застыла! Молчит! – Шура стиснул голову руками. – Я старший был, сначала подумал, ничего с ней не сделается, ребятам тоже разрядка нужна, а уснуть не могу. Пошел ее искать. Мы в лесу стояли, ночь уже, где найдешь? До драки у нас в землянке дошло! Это я свою вину хотел на других повесить! А не вышло… Подыхать буду – вспомню!
– Ты жалеешь, что был на фронте, я – что не был… – Горчаков долил остатки спирта.
– Я не жалею, и сейчас пошел бы, я не про это – хуже, чем война, нет ничего! Кино посмотришь – все герои! А я не знаю, что такое герои, грязь одна, кровища да грязь!
Замолчали, покуривая.
– Ты где теперь? – спросил Горчаков.
– На трассе. Мосты должны строить, да не строим…
– Почему?
– Не знаю… ни материалов, ни техники. Небольшие речки вместо мостов насыпями переходим, вода под ними по деревянным коробам идет, год-другой, все сгниет – и привет этой насыпи. Прошлой весной Турухан поднялся, десять километров трассы залил! Такой туфты поискать! Начальство ссыт, Николаич, ждут больших посадок, ничего уже не исправишь.
Шура замолчал недовольно. Погасил окурок в банке:
– Боюсь я домой возвращаться, Николаич. Четыре года на фронте да восемь здесь… Сгнило во мне все, ничего не осталось!
74
Навигация кончилась. Сан Саныча вызвали в пароходство, он должен был делать доклад, который делал в Министерстве в прошлом году. В ермаковской милиции выписали маршрутный лист, где значились города Игарка и Красноярск. От Красноярска до Николь было четыреста пятьдесят километров.
Он летел на совещание налегке, ему осталось отработать чуть больше года, и потом все должно было поменяться. Он твердо решил уволиться и уехать в Лугавское. Сан Саныч смотрел в иллюминатор на заснеженную тайгу и улыбался, как будто уже теперь летел к ним.
В пароходстве, где он так любил бывать, где ему всегда казалось, что его все любят, что-то поменялось. С ним здоровались, кто-то приятельски хлопал по плечу, но он чувствовал напряженность во взглядах. Были и такие, кто отворачивался, чтобы не здороваться. Секретарь Игарского райкома, старый партиец, руку не подал и жестко посмотрел в глаза. Сан Саныч переживал. Его товарищи думали про него, что он вор. Или еще что-то…
Он пошел к Макарову и отказался делать доклад. Макаров неожиданно легко согласился. Дело было вечером, они вдвоем сидели в большом кабинете.
– Я о Захарове хотел спросить, Иван Михалыч, ведь он сидит.
– Ты так глядишь, Сан Саныч, как будто я все решаю! – нахмурился начальник пароходства. – Занимаюсь я Захаровым, ты спрашивал уже… он им там наговорил на сто лет тюрьмы! Они бы и выпустили, да все зафиксировано, и он подо всем подписался. Сам на себя петлю надел!
– А генерал Подгозин? Он же ваш знакомый…
Макаров помолчал, глядя в стол, поднял недовольный взгляд:
– Занимаемся, я тебе сказал! Лучше про свои дела расскажи. Как работа?
– Нормально.
– Но и не рвешься! План еле-еле вытянул… Я завтра иду к генералу. Пойдешь со мной! Посидишь в коридоре, если он в настроении будет, я тебя позову. Он мужик неплохой, ты с ним поласковей, он любит, когда к нему… ну, понимаешь! Большое начальство! Попросим за твою невесту.
Всю ночь Сан Санычу виделось, как он уже едет за Николь. Так и не уснул. Представлял ее с мальчиком на руках, а Катька рядом, держит маму за руку. И он идет к ним. Сердце его готово было остановиться от благодарности к добрым людям – к Макарову, к этому генералу… Он включал лампочку, садился в постели, закуривал и рассказывал Николь, как все получилось, как им помогли.
Утром встретились с Макаровым у здания МГБ, выписали попуска и поднялись наверх. Сан Саныч шел знакомым длинным коридором и испытывал дурацкое чувство мести – он почти свободным шел по той же синей ковровой дорожке – не получилось у них посадить его, шел уже к другому генералу – справедливость восстанавливалась. Дверь в один из кабинетов открылась, Сан Саныч заглянул машинально, и ему показалось, что там идет допрос. Мгновенно все всплыло в душе – как стоял на опухших ногах, как конвоир орал, чтобы он не спал… Козин со взглядом гаденыша, сержант Цветков, закатывающий рукава… Сердце само собой затрепетало в панике.