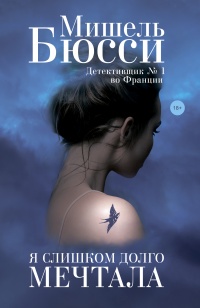Книга Севастопология - Татьяна Хофман
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Но вернёмся к языку матери: отношение к Украине часто сопутствовало вольному настроению моих родителей. В этом настроении всплывал и Ленинград, мой отец там учился, они пять лет поддерживали заочные отношения между Винницей и Ленинградом. Всплывал и Туркменистан. «Ведь твоя мать оттуда родом», – с ухмылкой говаривал мой отец и уточнял у матери, на сколько верблюдов он её выменял. Туркменистан? У него какое-то родство с Турцией? Это же была страна, куда мне не следовало заплывать и где я годы спустя научусь, наконец, плавать, какая ирония. Честно признаться, это говорит не в пользу моего кругозора, который открывался с балкона в сторону Турции. Ведь топографические векторы, которые простирались дальше дорических ворот моего города, я принимала тогда за шутки взрослых.
Накануне последних летних каникул в Севастополе наша учительница сказала, что с нового учебного года ей придётся говорить с нами по-украински. Хотя она его не знает. Моя мать успокаивала меня, что я научусь, это не трудно, она тоже учила украинский язык в школе и через полгода была первой ученицей по этому предмету. Мне следовало бы сказать себе: подумаешь, я пропустила два класса, а новый язык – это пустяк, перекус между делом. Если бы не отвращение. Ведь я провалила вступительный экзамен в школу с английским уклоном, у меня не было способностей к языкам, как мне объяснили, и по логике я полагала, что кроме естественных наук ничего не потяну.
Я и в Германии испытывала отвращение. Увы, я не любила немецкий язык, его мелодия и его носители мне не нравились. И нечего искать объяснения, я просто не хотела учить чужой язык и вообще переходить на метауровень. Я хотела говорить по-русски, не задумываясь о том, на каком языке, почему и как я говорю, а просто хотела решать задачи по математике. Я вглядывалась в лица моих немецких одноклассников. Кто ищет, тот находит: некоторые стали казаться мне вскоре знакомыми, и одну, с удобным именем Катарина, я спросила, не говорит ли она случайно по-русски. Она брезгливо скривила своё славянистое лицо. Не только она, вся моя школа, а прежде всего учительницы, которые прежде должны были изучать русский язык, терпеть его не могли. Немецкий заменил мне таким образом украинский и тем самым образ образования.
Другие проявления болезни по имени культура, перед выездом: родители возмущались украинскими политиками, начались демонстрации, зимний холод ощущался как при минусовой температуре, влажность стала влажнее. Севастополь перешёл на московское время, наша квартира тоже, и мать ликовала. Она вслух проклинала проект «Украина», впервые она ругалась на что-то, не вовлекая меня в лавину. Они совсем забыли про меня, настолько всё политизировалось, давали мне порой стопочку украинских денег, поскольку купоны ввиду инфляции имели только игровую ценность. Меня оставили в покое, правда, лишь до тех пор, пока не возник план переехать в Москву. Там наш способный Константин – средний сын, вот он был настоящий вундеркинд – мог бы изучать языки по-настоящему. Они уже просматривали объявления в газетах. Хотели обменять нашу квартиру на однокомнатную в Москве или Подмосковье. Но потом на Новый год моя мать позвонила своему двоюродному брату и случайно узнала про закон о контингентных беженцах. Так они перебежали с континента контингенции, причём только им было ясно, что они делают; я уверена, что для моих братьев, как и для меня, всё это было смутно, и я не знаю, развеялась ли эта туманная завеса до конца.
Тут я приостановлюсь и спрошу ещё раз: каково людям, которые остались там и до конца прожили распад Советского Союза на месте? Они мигрировали, не покидая свою землю? Так или иначе, это в какой-то момент дошло бы и до меня. И с этим «чувство» – Тамраньше, – что раньше и именно там существовало настоящее слово. Настоящая близость, настоящие родители, настоящие друзья и настоящие радости. Мир без кавычек, даже если он распался политически и экономически.
Я сохранила не только то ребячливо-детское представление, я сохранила саму себя в этом представлении, что где-то на улице не была неприкаянным обрывком. Я не хочу называть это ностальгией, это вообще не имеет названия, не имеет рода – оно то женского рода, то среднего, то так, то этак. Это и эта была важна, чтобы не застрять в постоянной депрессии. Подавленность, которая вызывает её, расплющивает тебя: ты развиваешься плющом вокруг твоих предков, смещая сдвиг в искажение. Доказываешь, что равенства справедливы лишь на бумаге. Прилипаешь на обратном пути из школы к сиденью в автобусе, хотя автобус останавливается у дверей «твоего» дома. Свинцовая и бледная, поставленная перед решением – срастись с пластиковой обивкой автобуса «Икарус» или спрыгнуть с ГДР-овского высотного дома. Как бы не угодить внизу на мусор голого кустарника.
Это больно: трогать струны инструмента, из которого я никогда не умела извлечь музыку. Объявим набирание пальцами букв похожим на пробирание на ощупь в подвале во время игры в прятки. Вместе с Олегом, который случайно меня обнимает, оглядываясь в поисках опасности, и осторожно прижимает палец к моим губам, чтобы я молчала, следовала за ним и чтобы мы застукались о стенку – и тем самым выиграли раунд непойманными. Вот видите, когда-то я чувствовала так глубоко, как это уже никогда больше не будет адекватно. Когда-то была в безопасности, на запретном и запертом месте, с людьми и без людей. Если обмануть статистику, я бы его уже не узнала, разве что на том же словоместе. Хотя я понимаю, как безнадёжно это представление, которое я обетовала сама себе – как на обеде, который хотя и подаёшь друзьям, но за который отвечаешь перед собой, так что это всё равно твоя еда, кем бы она ни была съедена.
Это представление по сей день делает меня бессловесной, даже если я впрысну себе ещё столько же языков, жаргонов и регистров. Я никогда не играла на них как следует, у меня нет слуха, я промахиваюсь, попадаю в промежуток Хоми Баба, глажу двух зайчиков сразу, вместо того, чтобы забить одного хотя бы раз. В недостающей мне Русскости мало раздельной пищи и много разваренных (хотя и не распространённых), пересалаченных, тушённых в сливочном масле блюд. Всё наготове, мой Маратик, и даже для тебя салатик. Мы уезжаем – невзирая на зверские попытки упражняться в аскезе или напротив – предаться традициям на толстослойной подложке торта.
Олег, я думала, у твоего имени нет уменьшительной формы. Однажды читала в каком-то украинском тексте: Олеша. Но это имечко похоже на фамилию одного русского автора польского происхождения. Я никогда не придавала большого значения именам – важнее было знать, кто на каком этаже живёт. Ты жил на самом верхнем, обожествление было запрограммировано. Олег с двенадцатого этажа. Из комнаты Вики можно было смотреть в сторону твоего балкона. С моего балкона я могла лишь проверить, внизу ли ты. Глядя на тебя сверху до тех пор, пока ты не поднимешь голову – так же, как я иногда сканировала твой балкон снизу, застигая врасплох твоё лицо, обращённое ко мне.
Может, мы всё-таки узнаем друг друга, в один прекрасный день, в одном прекрасном месте. Я вспоминаю твой запах, когда думаю о том, каким ты был светлым. Когда ты к нам приехал, ты был русый, а в конце лета, когда так же неожиданно исчез, твои волосы светились лунной белизной. Живой, шутливый, но не так преувеличенно, как некоторые из твоих друзей. Ты часто смеялся, и я любила поглядывать краем глаза: ты стоял перед своей компанией, они сидели на бортике тротуара, и ты был капитаном их настроения. Стоящий впереди обязан был поддерживать каждое слово шуткой. Танцующие губы так запомнились не потому, что было важно то, что они произносят, а потому, что ты был необъяснимо важен для меня.