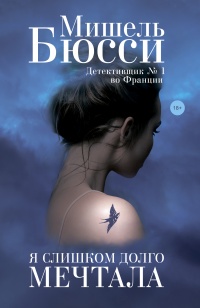Книга Севастопология - Татьяна Хофман
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Osteopatin. Может, это новое немецкое правописание? Может, профессия – остеопатка? Не восточная немка и не крёстная мать с востока. Восточные вокзалы на Западе и глобальные психопатки. Когда я думаю об Украине, я на краю. Безумия или сна наяву. Когда я думаю об Украине, мой сон убит. Принеси жертвенного агнца. Предприми неполитическое бегство, прикрытое фиговым листком, причём тамошним, а то и лавровым, у нас был и лавровый куст, он рос перед высотным домом, и иногда я приносила матери эту важную приправу для супа из моей первой империи, лавровые листья были ей милее, чем букеты цветов. Это истинная соль супа, единственно верная, сделайте так, чтоб я не сбилась с курса, не спрыгнула с края, не уплыла в Турцию через Цюрихское озеро или Ваннзее, оно же озеро безумия.
Алупка, Алушта, еврейский город пещер и катакомб, Ялта? Конференции, мировые события? Мы знаем, мы город мира. Достаточно знать, что тенистые обратные стороны фасадов готовы для настенной живописи, быть окружённым морской водой, её запахом в носу и иметь братьев, которые знают английский. Я не помню ни одной этнически гомогенной семьи. Лучший друг моего старшего брата был грек, мать моей подруги Насти с пятого этажа была из цыган, в мой класс ходила татарская девочка с косами до попы, а подруга из соседнего двора была полька с красноречивым именем Ванда. Татары часто приходили в гости к нашему дворнику на первом этаже, мы разглядывали круговой орнамент на их шапках, как и всякого, кто к нам входил и выходил. Домофонов тогда не было, дверь стояла открытой – как детям, так и педофилам, социалистическое равноправие.
Путаница в генах, в семьях, в поселениях и языках, на которых говорили в этих семьях. Ни налёта мысли о разделении внутри, только железно ясная, но не холодная разделительная линия по отношению к остальному миру. Идея распутать и это. Мы мыслили временами года, еды и погоды: что скажет вид с левого борта, как мы называли балкон, купабельно ли нынче море или на его волнах слишком много барашков? Мои родители мыслили вопросами, которые волновали наш мир: чему будут обучаться мои братья, где им жить, где и как после учёбы они создадут семью?
Мой Крым имел мало общего с Украиной, уж извините. После 1991 года Украина присутствовала первым делом на новых деньгах, которые ежедневно теряли покупательную способность. Купоны купировали существование, мои родители чувствовали себя одураченными. Основополагающая опасность пропитывала воздух. Я рассталась с моей коллекцией рублёвых монет.
Откуда ни возьмись у нас дома возник Киев, потому что мой отец зачастил туда в посольство ФРГ. Возникли проблемы. Дело выглядело так, будто посольство намекало на взятку, чтобы всё шло в соответствии с законом о беженцах по квоте. Я удивлялась, при чём здесь Киев. Мать сказала, что это столица Украины. Я спросила: мы что, живём на Украине? Да, я удивлялась, но с другой стороны, если постоянно удивляться тому, что день, ночь, краны с водой и дружбы рушатся, что мать держит ломик у двери в квартиру на случай ещё одного вторжения, что ботинки снова жмут и как быть с этим дальше, то всё удивление удивительным образом проходит на удивительном полуострове, острове сокровищ нашей русской души, на её радостном кладбище и гульбище, или: в преддверии, в первых рядах, в авангарде. В общем и целом я действительно исходила из того, что мы живём в России, причём в центре. У меня не было никакого представления о том, что такое украинцы или Украина; этот концепт – просто концерт по заявкам, сказал кто-то позднее. Я выросла с понятием «различного», но не с понятием «другого». Это началось на Западе. Но Запад ведь приплыл к нам на всех парусах, и, кроме этого, он стоял на книжной полке. И назывался он скорее всего США.
Лишь недавно, пару лет назад, когда я изучала украинский язык, я обнаружила, что домашний русский язык моей матери был пересыпан украинизмами. А я-то думала, это просто жаргон нашей семьи, пронизанный шутками, намёками и цитатами. Моя мать, которая в десять лет пошла в Виннице в украинскую школу и таким образом сделалась двуязычной, иногда обменивалась с моим отцом парой фраз по-украински, парой стихотворных или песенных строчек или просто русскими фразами, инкрустированными отдельными украинскими словами. Они постоянно перебрасывались строчками, это был их язык любви, а я не понимала его даже после изучения славистики. Учёба так и не помогла преодолеть выросшие в Берлине языковые барьеры с моими родителями, пока они медленно преодолевали свои барьеры по отношению к принявшей их стране. В конечном счёте мы встречались лишь иногда по делам, чтобы я напечатала им какое-нибудь официальное письмо в органы. Но это было куда скучнее, чем украинская история моих родителей – ещё и потому, что они скрывали её от меня, как и всю семейную историю.
Я смутно знаю, где-то в промежутке между русским и украинским языками, что мой отец в Виннице ходил в ту же школу, что и моя мать, когда вернулся из сахалинской ссылки с корейским налётом. Он давал ей дополнительные уроки по математике и физике, чтобы она наверстала то время, которое ей приходилось проводить на фабрике вместо школы.
Когда у моего отца на Сахалине случилось что-то серьёзное с почками, ему пришлось принимать лекарства. Из-за этого он не рос и пропустил полтора школьных года. Несмотря на эти превратные обстоятельства, на слух это воспринималось как история подвига, он сумел стать в школе лучшим по естественным наукам. Учительница рекомендовала его моей матери. Они встречались после школы, чтобы заниматься.
Благодаря общему времени в Виннице у них было что-то общее в украинском, когда он мимолётно проскальзывал или когда мать в очередной раз взвинчивалась, скажем так с сегодняшней дистанции, в речах антисоветской ненависти – эти речи вовлекали в свой снежный вихрь всё подряд, как, пожалуй, и всякий язык, который подворачивался ей под руку. Или когда я мешала ей слушать радио – передачи она слушала по-русски, по-украински и по-белорусски. Или когда она с седьмого этажа кричала мне: «Таньця» (другие дети удивлялись и спрашивали, не станцую ли я им что-нибудь). Она называла меня всегда только так, и я долго считала, что меня так и зовут. Нет такого имени, это украинское новообразование, аналогичное «Ганьця». На прощание утром в дни экзаменов или трудных испытаний она меня напутствовала: «Держись, казак, атаманом будешь!»
Но всё это не очень помогало убедить меня, что я живу на Украине. Украинские вкрапления не были обозначены как таковые, я относила их на счёт языковых игр. Они всплёскивались броско, но вместе с тем и уместно – как боцман, лоцман, мичман и в пандан им Гофман – так же по-мужски и главное дело: по-моряцки.
Кроме того, на этом месте взывают и польские поля вокруг городка Радзилов, чтобы их рассмотрели поближе и выслушали их – а может, и мои – истории. Полагается не больше и не меньше, как вернуться. Притянуть на канате, причалить. Как-нибудь в другой раз. Поле ещё далеко, лёд слишком тонок, зов слишком тих. Ещё одна заглублённая почва, которая выталкивает эту волну: мне нравится представление – вполне знаменательно оставаться «девчонкой с нашего двора». Чтобы не слишком бросалось в глаза, но когда подпись выступает вперёд и прикрывает тебя, я выступаю за Хофман.