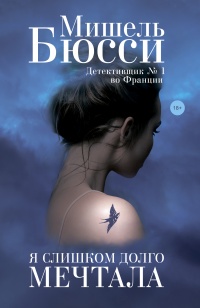Книга Севастопология - Татьяна Хофман
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Стройный закат солнца настраивал меня на грусть при мысли о завтрашнем дне, а потом, когда темнело, мы уходили домой последними, счастливыми. Солнце, этот витаминный апельсин, закатывалось за Буревестник, ты сидел рядом со мной на скамье, и другие мальчишки (даже тот, что отнял у меня скакалку) тактично уходили по домам. Может быть, тебя я потеряла навсегда, но та скамья без спинки, из тёмно-зелёных деревянных планок, одна из которых была вырвана, а ещё одна сломана, та сцена вокруг скамьи, вокруг нас, сами мы – это застряло навсегда.
Я рассказывала тебе про занятия плаванием в порту и что мне совсем неохота тащиться туда завтра с братом. Про языкового гения, который углубляется в английский роман и ничего вокруг не видит, про мальчика, который, спасаясь от воды, цепляется за бабушкину юбку и стягивает эту юбку ко всеобщей конфузии. Ты говорил, что можно бросить то, чего совсем не хочешь. Я повторяю твоё утверждение, эту фразу, я преподам её моим детям и студентам как единственно верную истину. Это мой спасательный круг, эта фраза меня освободила – и для матери моей была понятна. Перед лицом берлинских панелек, своей равномерностью и стандартностью похожих на перфорацию киноплёнки, на которой мне нет роли, я дала клятву, что ты останешься моей бол. люб. Не позволю увлечь себя никакой западной декорации, никаким цветочкам на балконе. Мои зелёные лимоны цветут при любой погоде.
Нынешние студенты хорошо воспитаны и модно одеты. Хотела бы я знать, какое у них было детство, какое детство было возможно после 1991 года… Ты не придавал значения тряпкам (какие уж тогда были). Твоя бежевая рубашка с растительным рисунком из 70-х. Такой же рисунок был на кухонном фартуке бабушки, такой же я видела в троллейбусе по дороге на пляж, только в более тёмных, сине-зелёных тонах. Но у тебя всё было светлым, даже когда ты загорел. Белый призрак с Дальнего Востока, темнокожий матрос из неведомых мест.
О-лег, оставь уже меня. Завидев его, я слегка вздрагивала, как от куска сахара с лимоном, вкус которого внезапно чувствуешь, несмотря на простудное притупление. На четыре года старше. На три месяца каникул он приезжал к своему сводному брату. В мебельной стенке у этого брата в том отделении, где у нас хранились фотографии, я разглядывала коллекцию маленьких танков. Ещё у них была лежанка на балконе – в такой же квартире, как у нас, только на верхнем этаже в высотке напротив. Там жила бабушка, сводный брат, а летом и Олег, но одно время он был там и зимой. У меня не было каникул, я ходила во вторую школьную смену вдоль холма, с которого мы обычно скатывались на картонках. Я смотрела вверх, он наблюдал за мной. Он видел туго заплетённый конский хвост, летом обычно растрёпанный ветром. Немного как мальчик из Когда я стану великаном, только стихи бы для него писала я, по-немецки.
Мой тогда ещё не ставший другим брат дружил со сводным братом Олега, поэтому я как маленькая сестра бывала в той квартире, потихотьку перефотографируя её мега-сердцем. Его лицо я вижу на множестве разных снимков. Голубые или серо-голубые или зелено-голубые глаза, в них всё Чёрное море. Человек, причаливший из Сибири прямо на пляж и на скейтборд. Сейчас он, может, стал мачо и даже не знает, что я была на свете. Или сентиментально вспоминает Севастополь и растрёпанную девочку с седьмого этажа, которой он тогда тайком подмигивал, когда никто не видел.
Когда я проезжала мимо него на роликах, а он дирижировал настроением своих дружков, сидящих на дорожном бортике, я была так сосредоточена на том, чтобы казаться безучастной, что так и не услышала, какими шутками он их развлекал. – Неописуемый мужчина мечты, где-то между Лиссабоном и Камчаткой. Жизнь иногда кажется мне obvious pun. Бросить на сковородку и изжарить из этого что-то съедобное. Я мать, я не только стала ею, я она и есть. И точка, конец, бутылка пуста, я управилась.
И всё это лишь потому, что я не посмела спросить у вечного Олега фамилию. Мы же называли его Олег с Камчатки. Оттуда, откуда берётся лучшая копчёная рыба, которой недавно угощали редакцию Русского Берлина. Моя единственная русскоговорящая подруга в Берлине рассказывала мне, отчитываясь об этой дегустации: судя по звукам, мы все испытывали множественный оргазм. Ну хорошо, она рассказывала об этом не мне, а фейсбуку. По-немецки. В Германии ты либо ассимилируешься, либо мелируешься потихоньку, замыкаясь в себе, и не играет роли, попала ты сюда в десять лет, как я, или в тринадцать, как она. Привезённые по воле родителей в надежде на лучшее будущее. В ней меня удивляло то, что хотя она приспособилась меньше, чем я, но зато сохранила талант в случае чего – смеяться. Мне интересно, что она скажет, когда навестит меня в Швейцарии. Я пока придерживаюсь принципа – будь что будет, и приходи кто хочет. Мне становится всё равно, звучат их сладострастные стоны ЗА или ПРОТИВ родины, они давно меня обесцветили, я в исходнике за венец федерализма – Гельвецию.
Постой, тот покрой: полунарядное платье. Для суббот и тех дней, когда мы с матерью в бесхлопотном настроении. Узор – ветки рябины. Бело-голубой, немного блёклый хлопок, в холодном противоречии к реальности оранжево-красной рябины у забора детсада. А платье, в котором уютно себя чувствовала мать – чёрное с красно-бело-жёлтыми цветами. В Берлине она его выбросила – и я боялась, что к ней уже никогда не вернётся хорошее настроение.
Короткие рукава моего полупраздничного платья присобраны на резинку мать называет этот фасон фонариком. На поясе тоже резинка. Юбка от пояса ниспадает до колен повторяющимися вертикальными волнами. Каждое лето она неудержимо становится короче. Но «кружится» так же, и с ней надо быть осторожной: едва с моря порыв ветра, юбку надо укрощать, и уже не попрыгаешь. Подлые птичьи ягоды рябины, не порхайте выше пупка. Почти-праздничность платьев – на фоне шортов, обычно перешитых из братниных брюк. Точность цветопередачи – на фоне чёрно-белого телевизионного приёма западных мультфильмов – как банда жевательных мишек…
Его рубашка бежевой расцветки преподносит кофейный крендель для медитирования; я так никогда и не разгадала, какое явление живой природы было положено в основу этого узора. Его тренированные руки коричнево выглядывали из коротких рукавов. Я подарю тебе рубашку с рисунком незабудки, как ты смотришь на это? Я уже давно подумываю скроить себе какую-нибудь одёжку из белого полотна с чёрной вышивкой: буквы, строчки, параграфы, разрезанные и достаточно фрагментарные, чтобы в них можно было что-то зачаточно прочесть, если охота. Я нарежу этих строчек и пошлю к тебе голубя с этим текстилем. Ты сможешь им обернуться. Нет, лучше не голубя, а чайку. Буревестника, нашу штормовую птицу. Кран, который переместит тебя сюда в качестве музы музея Милая семья.
Было не так много приметного. У Вики была красно-жёлтая юбка, которую можно было носить и зимой с колготками. Я просила мать связать мне тоже нечто такое. Мать отвечала, что ей некогда. И я продолжала ходить в тёмно-синем шерстяном платье школьной формы, с гольфами, которые вечно сползали. Зимой в пальто из искусственного меха, в переходное время – в красно-синей непромокаемой мальчишьей куртке из 70-х с прекрасными прорезными карманами – в них помещалась в аккурат горсть семечек.
Теперь не вижу ни рубашек с кренделями, ни героев Крыма на горизонте. А если и увижу, я всё равно не смогу нарисовать те цветочные кружки и завихрения, хотя они маячат у меня перед глазами. Я хотела бы либо забыть их, либо найти такую же рубашку и купить её, носить. Рисовать. Рисовать. Призраки, которые стремительно вырвались клочьями. Что мне в них? О, лег, ляг, рубашка превращается, как полагается таким вещам, она становится украшением романтичнейшего угловатого стола: поэтически пропитанной скатерти нашей Русскости. За этим столом питаются лишь изголодавшиеся друг по другу пары. На лирическом фоне красуются вазы с букетами. В рифму с приветами.