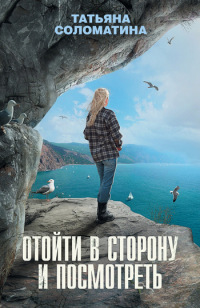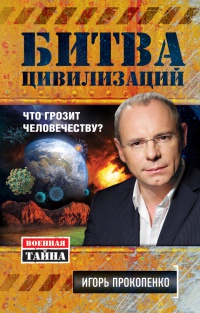Книга Просвещенные - Мигель Сихуко
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Из готовящейся биографии «Криспин Сальвадор: восемь жизней» (Мигель Сихуко)
* * *
Если вдуматься, то я нисколько не удивился, когда Криспин попросил меня помочь ему в сборе материала. По ходу дела произошли некоторые сдвиги. Он уже обращался ко мне по-свойски — «паре», как зовут у нас старых приятелей-соотечественников. Иногда он играл с акцентами, извращая мягкое «па-ре» на манер американского матроса в увольнении — «пэи-рии». Такое неформальное обращение стало для меня важной вехой.
В то время мы с Мэдисон серьезно подумывали о переезде в Африку — чтобы строить дома с картеровским «Хабитатом»[79]или устроиться в Корпус мира[80]в Танзании. Это была ее грандиозная затея. Мэдисон была убеждена, что это поможет ей с докторской, которую она собиралась защищать на факультете международных отношений Колумбийского университета; близость к «реальным страданиям», как она говорила, должна была помочь и мне в литературной деятельности. Как будто я не на Филиппинах вырос. Однако это накладывало серьезные обязательства. Я не был уверен в прочности наших отношений, и мне не хотелось взять и бросить все в Нью-Йорке, чтобы через некоторое оказаться где-нибудь к югу от Сахары, где меня сбросят, как балласт, ради какого-нибудь немецкого археолога с большой лопатой, напевающего Вагнера.
Я знал, что Криспин работает над «Пылающими мостами», и хотел помочь. Я мягко намекнул ему, что, если не найду работу, мне придется покинуть Нью-Йорк. Я, конечно, сделал акцент на том, что предпочел бы работать на благо своей страны (Криспин считал, что писать о Филиппинах — значит работать на благо родины). Продемонстрировав нечеловеческое великодушие, он предложил мне работу. Я согласился, несмотря на внезапно закравшиеся подозрения относительно развития наших отношений — денди, друзей нет, с семьей в разладе, заботливый такой, сам бездетный. Никаких явных оснований для беспокойства у меня не было. Но откуда такой интерес? Полагаю, помимо впечатления, которое на меня производили его либеральные взгляды и педантичность, мои опасения свидетельствовали о неуверенности в себе и собственных способностях. Я, конечно, расстроился, когда он даже не подпустил меня к работе над книжкой, сослав на позицию ассистента преподавателя.
Чтобы почетче обозначить границы нашей с Криспином дружбы, я стал чаще рассказывать о Мэдисон. О том, как она расстроилась, что мы никуда не едем; как она вела себя после того, как написала и отправила мейлы, в которых отказывалась от африканских приключений. Час нашего запланированного путешествия к сердцу тьмы[81]настал — и прошел мимо. Ради нее я приготовил дома романтический ужин с индейкой из тофу. Мы ели в тишине. Потом, после просмотра финальной в сезоне серии «Последнего героя»[82], которую я заботливо записал для нее на наш старенький видеомагнитофон, Мэдисон наконец взорвалась. Подобные истории Криспин благосклонно выслушивал, однако советы давать избегал.
В итоге я решил, что в его ко мне отношении больше покровительства, нежели педерастического интереса. Иногда он даже вел себя по-отечески, отчего мне было его по-настоящему жаль. Он был бы хорошим отцом. Ему как будто понятна была моя жажда и стремление к тому смутному и неопределимому, чем я еще не обладал. К тому, что важно по гамбургскому счету. Дуля-то все время твердил о деталях, результатах, признании. Я с удивлением отметил, что в качестве наставника Криспин обладал даже некоторой мягкостью и терпимостью, которые, впрочем, проявлялись, лишь когда он окончательно убеждал себя, что верит в вас. Он проявлял такую доброту, на которую способны только люди невеликодушные и мелочные. По мере нашего сближения мое мнение, следовать которому он по-прежнему не спешил, испрашивалось все чаще. Исполнять для него роль мальчика на побегушках было совсем не сложно, пусть даже он просил меня почистить ботинки или постричь его карликовые деревья, что случалось нередко.
* * *
Смазанные контуры тростниковых полей пролетают мимо по дороге в Свани, а я вспоминаю мать. Она родилась тут, здесь же родила меня. Я, как лосось, возвращаюсь на нерест в родные места, которые кажутся настолько чужими, что возникают сомнения в подлинности моего свидетельства о рождении. Впрочем, не так уж сложно представить, что за жизнь была у нее здесь, — постоянство в характере Баколода. И те, кто здесь живет и умирает, верно, находят в этом отраду.
Единственной константой в моей жизни были вторичные воспоминания о ней и папе, сложенные где-то внутри меня подобно винтажным открыткам в антикварной лавке. На обороте этих открыток вышедшим из употребления слитным почерком написано: жаль, что нас нет с тобой рядом. Вместо корней у меня события, которых сам я толком не помню, зафиксированные лишь в рамочках, расставленных по зеркальной поверхности бабушкиного кабинетного рояля. Мама в Венеции — курит, облокотившись на перила вапоретто; в той поездке она слишком много потратила на антикварные маски, и они с отцом повздорили: осознав свою неправоту, отец тайком вернулся в магазин и купил ей самую дорогую маску. Отец на многолюдном митинге вещает с полуразвалившегося трактора — из тех, что когда-то присылали из Штатов гуманитарные организации. Он стоит, запрокинув голову, широко разведя руки, как статуя Воздаяния в Филиппинском университете, — это канун его первой победы на выборах, молодой мужчина, устремленный к вершинам. Родители танцуют свадебный вальс в саду родового поместья где-то на острове; папа что-то шепчет маме на ухо, она притягивает его ближе и смеется, собравшиеся смотрят на них с интересом — вот какими я предпочитаю помнить родителей.
В этих краях начались и две жизни Криспина. Первая — с рождением. Вторая — с обретением независимости. Это произошло в 1975 году, как будто специально предназначенном для романтических трагедий, которых не признают богачи, искренне любят бедняки и стыдливо смотрят представители среднего класса в мыльных операх: оказавшись на краю банкротства, семейства Баколода перегрызлись, как псы над тушей, и внезапно с прежней силой уверовали в Бога, ожидая, подобно исполнителям ритуальных танцев, заклинающим небо о дожде, когда же рынок наконец выправится.
Любопытная сцена: повсюду: в ванных, бальных залах, на кортах и в гаражах — горами золотой пыли навален сахар. Младший, стоя у парадного входа, кричит, что всякое обсуждение его супружеской неверности лишь усугубит страдания Леоноры. Криспин взваливает чемодан на плечи и идет по пыльной дороге прочь из Свани, поскольку отец запретил домашним подвозить его до города. Окна обрамлены пластиковым остролистом, раскрашенные фанерные Санта и Рудольф на крыше. Нарцисито и Лена, как дети, выглядывают из окна второго этажа, их мокрые от слез лица искажены бессилием. Удаляющаяся фигура Криспина съеживается в желтом мареве; вдруг он останавливается, чтобы последний раз взглянуть на брата и сестру, на свой детский рай, на засыпанный сахаром бассейн и пустой проем двери, где уже никто не стоит и не смотрит ему вслед.