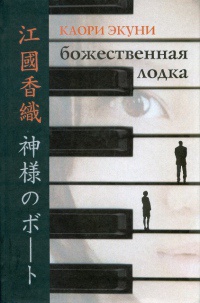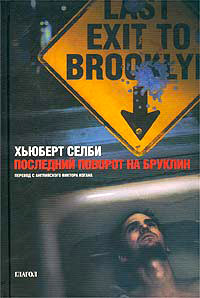Книга Маленькая жизнь - Ханья Янагихара
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Как-то он пережил эту поездку; как-то пережил год. В день смерти Виллема ему снилось, как взрываются стеклянные вазы, как летит по воздуху тело Виллема и лицо его врезается в дерево. Он проснулся с такой тоской по Виллему, что ему показалось, будто он слепнет. В тот день он вернулся домой и увидел одну из афиш фильма «Счастливые годы», которому вернули теперь первоначальное название «Танцовщик и сцена». На некоторых афишах был Виллем: волосы длинные, как у Нуреева, глубокий вырез на груди, длинная, сильная шея. А на некоторых красовалось лишь монументальное изображение ноги — ноги Виллема, он знал это — в балетной туфле на пуанте, снятой так близко, что видны были вены и волоски, и тонкие напряженные мускулы, и сухожилия. «Премьера в День благодарения», говорилось в афише. О боже, думал он, возвращаясь в дом, о боже. Он хотел, чтобы ему перестали напоминать; он страшился дня, когда перестанут. В последние недели ему казалось, что Виллем ускользает от него, хотя тоска отказывалась ослабевать.
На следующей неделе они пошли к Ирвинам. По молчаливому уговору они решили идти все вместе и встретились в квартире Ричарда; он дал Ричарду ключи от машины, чтобы тот их отвез. Все молчали, даже Джей-Би, сам он страшно нервничал. Ему казалось, что Ирвины сердятся на него и что он это заслужил.
Ужин состоял из любимых блюд Малкольма, и пока они ели, он чувствовал, что мистер Ирвин не сводит с него глаз, и спрашивал себя, думает ли мистер Ирвин о том же, о чем и он сам: почему Малкольм? Почему не он?
Миссис Ирвин предложила, чтобы все по кругу поделились какими-то воспоминаниями о Малкольме, и он сидел и слушал: миссис Ирвин рассказала историю о том, как они осматривали Пантеон, когда Малкольму было шесть, и через пять минут после того, как они ушли, вдруг оказалось, что Малкольм пропал; они кинулись обратно и нашли его на полу — он все во все глаза таращился на отверстие в куполе. Флора рассказала, как Малкольм-второклассник забрал с чердака ее кукольный дом, вынул оттуда всех кукол и обставил его крошечными столами, стульями, диванами и какими-то еще неизвестными ей предметами мебели, сделанными из пластилина; Джей-Би рассказал, как они все вернулись в колледж на день раньше после Дня благодарения, прорвались в общежитие, где были совершенно одни, и как Малкольм развел огонь в камине в гостиной, чтобы пожарить на ужин колбаски; а когда наступила его очередь, он рассказал историю о том, как Малкольм мастерил им стеллаж на Лиспенард-стрит: было ясно, что стеллаж с трудом помещается — нельзя будет вытянуть ноги на диване, иначе упрешься в книжные полки, но он очень хотел стеллаж, и Виллем согласился. И вот Малкольм принес самое дешевое дерево — остатки со склада пиломатериалов, — и они с Виллемом пошли на крышу собирать стеллаж, чтобы соседи не жаловались на шум, а потом принесли стеллаж в квартиру и установили его.
Но тут оказалось, что Малкольм ошибся в измерениях, и стеллаж на три дюйма шире, чем нужно, и поэтому край выступает в коридор. Они с Виллемом сказали, что это ерунда, но Малколм хотел все переделать. «Не надо, Мэл, — говорили они, — все отлично, все хорошо». — «Нет, — отвечал Малкольм скорбно, — не хорошо и не отлично». Наконец они убедили его, и он ушел. Они с Виллемом выкрасили стеллаж яркой киноварью и поставили на него свои книги. А в следующее воскресенье ранним утром появился Малкольм, и вид у него был весьма решительный. «Я все время об этом думаю», — сказал он. А потом поставил на пол свою сумку, достал из нее ножовку и принялся пилить, а они вдвоем орали на него, пока не сообразили, что он все равно переделает стеллаж, с их помощью или без нее. Поэтому стеллаж снова отправился на крышу, а потом обратно, и на этот раз он встал безукоризненно.
— Я всегда вспоминаю этот случай, — сказал он, — потому что это история о том, как серьезно Малкольм относился к своей работе, как всегда стремился в ней к совершенству, как он уважал материал, будь то мрамор или фанера. И о том, как он уважал пространство, любое пространство, даже ужасную, безнадежную, убогую квартирку в Чайнатауне: даже она заслуживает уважения. И еще это история о том, как он уважал своих друзей, как хотел, чтобы все мы жили в домах, которые он для нас придумал: прекрасных и необычных, как его воображаемые дома.
Он остановился. Он еще хотел сказать и не сказал — почувствовал, что не может, — как он подслушал диалог Малкольма и Виллема: он вышел, чтобы достать из-под ванны краску и кисточки, Виллем пожаловался, что придется опять таскать стеллаж, а Малкольм прошептал: «Если б я его так и оставил, он мог бы об него споткнуться и упасть, Виллем. Ты этого хочешь?» — «Нет, — сказал Виллем после паузы, явно пристыженный. — Конечно же нет, ты прав, Мэл». Малкольм, как он потом понял, первым из трех его друзей осознал, что имеет дело с инвалидом; Малкольм понял это раньше, чем он сам. Малкольм всегда об этом думал, хотя и старался не говорить об этом прямо. Малкольм только и хотел, что облегчить ему жизнь, и когда-то его это раздражало.
В тот вечер, когда они уходили, мистер Ирвин положил руку ему на плечо:
— Джуд, можешь немного задержаться? — спросил он. — Монро отвезет тебя.
Пришлось согласиться — он сказал Ричарду, чтобы тот взял машину и ехал на Грин-стрит. Некоторое время они сидели в гостиной, только он и мистер Ирвин — мать Малкольма оставалась в столовой с Флорой, ее мужем и детьми, — и говорили о его здоровье, о здоровье мистера Ирвина, о Гарольде, о его работе, и вдруг мистер Ирвин расплакался. Тогда он встал, сел рядом с мистером Ирвином, неуверенно положил руку ему на спину, стесняясь и робея, чувствуя, как с плеч сваливаются десятилетия.
Мистер Ирвин всегда казался им невероятно внушительным. Высокий рост, крупные черты лица, сдержанные манеры — он как будто сошел с фотографии работы Эдварда Кертиса, и они так и называли его: Вождь. «А что на это скажет Вождь, а, Мэл?» — спросил Джей-Би, когда Малкольм объявил им, что уходит из «Ратстара», и они все пытались его вразумить. Или (снова Джей-Би): «Мэл, спроси у Вождя, можно мне остановиться в их квартире в следующем месяце, когда я проездом буду в Париже?»
Но мистер Ирвин больше не был Вождем, он сохранил прямую осанку и безупречную логику, но ему исполнилось уже восемьдесят девять лет, и его некогда темные глаза обрели тот невнятный серый цвет, какой бывает только у стариков и младенцев, цвет моря, из которого все приходят, цвет моря, в которое все возвращаются.
— Я любил его, — сказал мистер Ирвин. — Ты это знаешь, правда? Ты знаешь, что я его любил.
— Да, — сказал он.
Он всегда говорил Малкольму: «Конечно же твой отец любит тебя, Мэл. Конечно любит. Родители любят своих детей». И однажды, когда Малкольм был очень расстроен (уже трудно вспомнить, из-за чего), он огрызнулся: «Тебе-то откуда знать, Джуд», — после чего воцарилось молчание, а потом Малкольм в ужасе стал просить прощения. «Прости, Джуд, — говорил он. — Прости». А ему нечего было ответить, ведь Малкольм был прав, ему неоткуда было об этом знать. Все, что он знал, он знал из книг, а книги лгут, они все приукрашивают. Это было худшее, что он слышал от Малкольма, и хотя он больше никогда об этом не упоминал, Малкольм однажды напомнил ему об этом эпизоде, вскоре после усыновления.