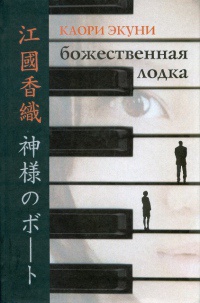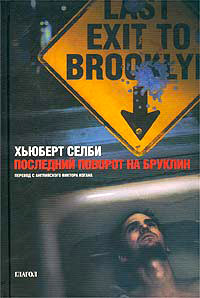Книга Маленькая жизнь - Ханья Янагихара
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— А, в Гротоне!
— Да, — говорит он, пытаясь улыбнуться в ответ. — В Гротоне.
Иногда, впрочем, Люсьен взглядывает на него с недоверием.
— Наставником? — говорит он. — Я слишком молод, чтобы быть чьим-то наставником!
А иногда он ничего не спрашивает, начинает разговор с середины, и приходится ждать, пока наберется достаточно подсказок, какая роль ему досталась — старого поклонника одной из дочерей, однокурсника, приятеля по гольф-клубу, — прежде чем он сможет отвечать впопад.
В эти часы он узнает о прошлой жизни Люсьена гораздо больше, чем тот рассказывал ему прежде. Хотя Люсьен при этом уже не Люсьен, во всяком случае не тот Люсьен, какого он знал. Этот Люсьен туманный, бесформенный, гладкий, лишенный углов, словно яйцо. Даже его чуть надтреснутый голос с протяжными интонациями, голос, который некогда произносил одни афоризмы; даже паузы, которые он привык оставлять для смеха слушателей; даже манера выделять абзацы, начиная и заканчивая каждый как будто шуткой, а на самом деле колкостью, затянутой в шелковый футляр, — все это изменилось. Даже когда они вместе работали, он знал, что офисный Люсьен не то же, что клубный Люсьен, но он никогда не видел другого Люсьена. А теперь видит, теперь это все, что он видит. Этот Люсьен говорит о погоде, о гольфе, о парусном спорте, о налогах, однако налоговое законодательство, о котором он рассуждает, это законодательство двадцатилетней давности. О нем он никогда не спрашивает: кто он, кем работает, почему иногда сидит в инвалидном кресле. Люсьен говорит, и он улыбается, кивает, сжимая в ладонях чашку с остывающим чаем. Когда руки Люсьена дрожат, он берет их в свои, он знает, это помогает — так делал Виллем и дышал с ним вместе, и это всегда его успокаивало. Когда Люсьен пускает слюни, он утирает ему рот кончиком салфетки. В отличие от него Люсьен не стесняется ни дрожащих рук, ни слюней, и он рад, что это так. Ему не стыдно за Люсьена, но стыдно, что он не может сделать для него больше.
«Он радуется тебе, Джуд», — говорит Мередит, но он не верит ей. Иногда ему кажется, что он приходит скорее ради Мередит, чем ради Люсьена, и он понимает вдруг, что это так и должно быть: приходить не к тому, кто потерян, а к тому, кто ищет потерянного. Люсьен не осознает этого, но он помнит, что и с ним так было, когда он болел, а Виллем о нем заботился, — и в первый раз, и во второй. Как благодарен он был, когда просыпался и находил у своей постели кого-то, кроме Виллема. «С ним Роман», — говорили Ричард или Малкольм, или: «Они с Джей-Би пошли пообедать», — и он расслаблялся. В эти недели после ампутации, когда ему хотелось сдаться, мгновения, когда он воображал, что Виллема может кто-то утешить, и были единственными мгновениями счастья. И вот, после того как посидел с Люсьеном, он сидит с Мередит, и они разговаривают, и она не спрашивает о его жизни, и это хорошо. Она одинока; он тоже одинок. У них с Люсьеном две дочери, одна в Нью-Йорке, но она то выходит из реабилитационной клиники, то снова туда попадает; а другая живет в Филадельфии с мужем и тремя детьми, и она тоже юрист, как Люсьен.
Он знаком с обеими дочерями, они младше его лет на десять, хотя Люсьен ровесник Гарольда. Когда он пришел в больницу к Люсьену, старшая, та, что в Нью-Йорке, взглянула на него с такой ненавистью, что он чуть отступил назад, а потом сказала младшей:
— Смотри-ка, папин любимчик пожаловал. Какой сюрприз.
— Возьми себя в руки, Порция, — прошипела младшая. И добавила, обращаясь к нему: — Джуд, спасибо, что пришел. Очень жаль Виллема, мои соболезнования.
— Спасибо, что пришел, Джуд, — говорит теперь Мередит, целуя его на прощание. — Ты придешь еще?
Она всегда спрашивает его об этом, как будто в один прекрасный день он скажет: «Не приду».
— Да, — говорит он. — Я напишу.
— Напиши, — говорит она и машет ему вслед, пока он идет по коридору к лифту. Ему всегда кажется, что никто, кроме него, к ним не приходит, хотя как так может быть? Хоть бы это было не так, думает он. У Мередит и Люсьена всегда было много друзей. Они устраивали у себя вечера. Нередко Люсьен уходил из офиса в костюме с черным галстуком и, прощаясь с ним, закатывал глаза: «Благотворительный бал». «Вечеринка». «Свадьба». «Ужин».
После визитов к Люсьену он всегда чувствует себя выжатым, но, несмотря на это, идет пешком — семь кварталов на юг и полквартала на восток — к Ирвинам. Несколько месяцев он избегал Ирвинов, а потом, в прошлом месяце, на годовщину, они позвали его, Ричарда и Джей-Би к себе на ужин, и он понял, что придется пойти.
Это были следующие выходные после Дня труда. Предыдущий месяц — четыре недели, включая день, когда Виллему бы исполнилось пятьдесят три, включая день его смерти — был одним из худших в его жизни. Он знал, что будет плохо, и строил планы исходя из этого. Фирме нужно было послать кого-то в Пекин, и хотя он знал, что ему надо бы остаться в Нью-Йорке — он работал над делом, которое требовало его присутствия в офисе, и это было важнее Пекина, — но все-таки вызвался поехать и поехал. Сначала он надеялся, что это поможет: обволакивающее онемение джет-лэга иногда казалось неотличимым от ватного онемения тоски, и было еще много всяких физических неудобств — включая жару, тоже обволакивающую и мучительную, — на которые он уповал, которые могли бы отвлечь его. Но потом однажды вечером, ближе к концу срока, он ехал в гостиницу после долгого дня, после бесконечных деловых встреч, и вдруг увидел блестевший над дорогой огромный плакат с лицом Виллема. Это была реклама пива, для которой Виллем снимался два года назад, — для распространения только в Восточной Азии. С верхушки плаката свисали люди в строительных люльках, и он понял, что они закрашивают рекламу, стирают лицо Виллема. Внезапно он перестал дышать, потом попросил водителя остановиться, но тот не смог, они выехали на эстакаду, где не было аварийных полос, так что ему просто пришлось сидеть неподвижно, пока сердце взрывалось внутри, считать удары пульса до самой гостиницы, поблагодарить водителя, выйти, пройти через вестибюль, подняться в лифте, пройти по коридору, войти в комнату, где он, не думая, швырнул себя о холодную мраморную стену душевой, закрыв глаза и открыв рот, и бился о стену до тех пор, пока каждый позвонок, казалось, не вышел из своей ячейки.
В ту ночь он резал себя безудержно, бесконтрольно, а когда его трясло уже так, что он не мог продолжать, он переждал, вымыл пол, выпил сока, чтобы набраться сил, и начал снова. После трех заходов он залез в угол душевой и рыдал, закрыв голову руками, пачкая волосы кровью, и так и уснул в ту ночь, накрывшись полотенцем вместо одеяла. Он делал так иногда, когда был ребенком и чувствовал, что вот-вот взорвется, отделится от самого себя, словно угасающая звезда, и тогда у него возникало желание забиться в крохотную нору, чтобы все кости оказались как будто в горсти. Тогда он осторожно вылезал из-под брата Луки и скорчивался под кроватью, на грязном ковролине, колючем от зацепок и закатившихся туда канцелярских кнопок, склизком от использованных презервативов и каких-то еще мокрых пятен, или же забивался ванну или в шкаф, стараясь съежиться, насколько это возможно. «Бедный мой жучок, — говорил брат Лука, когда находил его. — Почему ты это делаешь, Джуд?» Брат Лука был ласков, обеспокоен, но он никогда не мог ему объяснить.