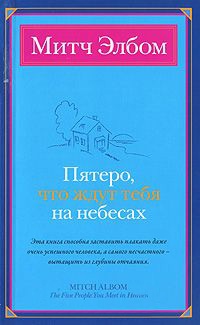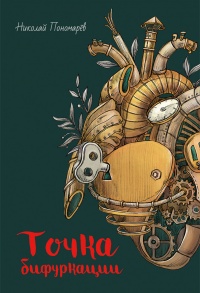Книга Кладбище балалаек - Александр Хургин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Зато в их аэропорту кофе я наливал себе в коричневые одноразовые чашечки. Они стояли стопками, как горшки в «Операции Ы», и когда человек, выпив кофе, выбрасывал в урну такую великолепную чашечку, мне хотелось украсть их все, увезти на родину, которую не выбирают, и подарить своим лучшим друзьям и подругам — чтобы они пользовались ими в торжественных случаях, принимая самых дорогих гостей. Не знаю, что, но что-то не позволило осуществить мне этот проект (О!). Я наблюдал, как прекрасные чашечки летели в урну, и мою подкорку подтачивал вопрос: «Где, спрашивается, хвалёная немецкая экономность?»
То есть экономности (если забыть о чашечках, что невозможно) хватало. К примеру, мыла в душе лежал такой кусочек, что носки постирать ни за что не хватило бы. Один ещё куда ни шло, а два — ни за что. А за вечер встречи, устроенный в нашу честь, с нас же высчитали по двадцать марок. Ну не свинство ли?
Какие ещё познания я приобрёл? Что из приобретённого могло пригодиться мне в будущей иммигрантской жизни? Очень немногое.
Вот, допустим, узнал я, что мелочи в Германии превыше всего. И о них нужно знать. Для собственной же пользы. Что автоматы, продающие билеты, установлены только в первых вагонах берлинского трамвая, нужно было знать. Когда и какую кнопку нажимать, и что в них запихивать, тоже знать было нужно. Скажем, монеты, меньше десяти пфеннигов, автоматы не жрали. Хотя сдачу с полусотни марок давали беспрекословно. Не мешало знать также, что денег на билет жалеть не следует. Несмотря на то, что стоил он очень дорого. Штраф за безбилетный проезд был вообще бесчеловечных размеров.
Знать нужно и где продают дешёвую еду, одежду, чип-карты, где меняют валюту, где стоит телефон-автомат. Всё это в столице объединённой Германии — совсем не на каждом шагу.
Кстати, о телефонах. Шестнадцатого апреля я звонил родителям. Поздравлял их с днём рождения. Слышно было так, как по телефону слышно вообще не бывает. А звонил я — чтобы было дешевле — не из номера, а из обыкновенной телефонной будки. То есть, по моим представлениям, я звонил из совершенно необыкновенной телефонной будки — жёлтой и звуконепроницаемой, с не выбитыми стеклами, без характерного запаха вчерашней мочи внутри. А возможность позвонить из неё в любую страну мира! Тогда для меня это было настоящим чудом. К счастью — не обошлось без лёгкого идиотизма. Стоимость разговора со Штатами в будке была, а кода страны — не было. Хотя любые другие коды — были. Возможно, все немцы и так знали код США. Но я-то его не знал. И рылся — просто уже ради интереса — в толстенных телефонных книгах. Они висели на специальных кронштейнах. И были достаточно растрепанны, но не украдены.
Вот, пожалуй, и всё… Ну, запомнил я ещё посещение ресторанчика — на улице, между прочим, Чайковского, — запомнил, как хорошо жилось мне в гостинице. Но от этого точно уж никакого проку. Одни приятные воспоминания.
Да, в ресторанчике официант с лицом карибского пирата ничего не записывал. Приносил заказ — и всё. А потом на выходе спрашивал у каждого, что тот ел и пил. Каждый — а нас было человек пятнадцать — отвечал, он — идиот — верил, выбивал чеки и говорил, сколько платить. И если ты не очень понимал немецкий, ты просто давал ему бумажку покрупнее. Он брал, сколько надо плюс пять, что ли, процентов на чай. Без обсчёта. Единственное, что меня хоть как-то успокоило, это объяснение одной переводчицы. Она сказала, что в других ресторанах официанты всё записывают. А здесь он видел, что мы пришли с завсегдатаями, заслужившими доверие на протяжении лет — и верил не столько нам, сколько им.
А о нашей маленькой гостинице знатоки сообщили нам, что во времена Восточной Германии сюда ездили партийно-комсомольские деятели двух дружественных стран — СССР и ГДР — трахать фигуристок. Почему фигуристок, а не кого-то другого, знатоки не сообщили.
Номера здесь и в самом деле выглядели функционально: широкая кровать — одна, стол — один, стул — один, так что гостью удобнее всего посадить на кровать. Работали в гостинице муж и жена. Они же ею владели. Чистота тут стояла, как в реанимации, санузел не только сиял, но и пах. В смысле, чем-то неуловимым и ласкающим нюх. А немецкая туалетная бумага принципиально отличалась от нашей. Своей пупырчатостью и многослойностью. Всех преимуществ такой бумаги описывать не буду, они в прямом смысле ощутимы.
В шесть утра можно было выходить завтракать. Поесть следовало до десяти. Но и в одиннадцать тоже можно было поесть. К сожалению, на себе из столовой ничего просили не выносить. Говорили — не принято. А там столько всего подавали на завтрак, что вполне хватило бы на ужин и обед. Поэтому я приходил завтракать с салфеткой или с куском туалетной бумаги. Чтобы не класть еду непосредственно в карманы. Впрочем, достаточное количество еды имело автономную упаковку, и это облегчало задачу. А хозяева, небось, думали, что колбаски, паштет, сыры и остальное русские писатели поедают вместе с упаковкой. И считали, что нам, малоцивилизованным, это простительно. Возможно, они говорили друг другу: «А-а, пусть! Лишь бы по-крупному не воровали».
К сожалению, воруют или не воруют сами немцы, я так и не выяснил. Телефонные книги в будках висели, зонтики в вестибюле гостиницы стояли — бери не хочу. И никто не хотел. А велосипеды у магазинов пристегивали к специальным стойкам. Значит, боялись, что могут их спереть.
Да, забыл. Вот это как раз знать не повредит всем — и туристам, и эмигрантам, и прочим категориям граждан, собирающимся пожить в Германии. И у немцев техника ломается! Как миленькая. Когда я улетал, на въезде в аэропорт Tegel сломалось табло. Оно указывало, откуда какой самолёт отправляется — чтобы к терминалу можно было прямо на машине подъехать.
Правда, немцы не растерялись. Они поставили под табло самых красивых девок, каких только смогли найти в своей столице, и те тормозили все машины, спрашивали, на какой рейс у пассажиров билеты, и показывали, в какой сектор сворачивать. Чтобы им, не дай Бог, не пришлось проехать лишних двадцать метров.
А в целом, что-то было в моей поездке очень хорошо, что-то — не очень. «Не очень» в основном наступило по возвращении. Когда посмотришь на чужую жизнь, хочется как-то подправить свою. А это невозможно. Естественно, расстраиваешься. Не прикажешь же себе не расстраиваться. Не прикажешь.
Но желания там жить у меня не появилось. Нет, не появилось. Почаще приезжать — я бы с превеликим удовольствием. И мне было жаль, что это практически несбыточно — как бывает жаль всего того, что несбыточно.
В одиночку
Ладно, проехали. Кто знает, что сбыточно, а что нет!
Итак, я влип в проект. Влип, пала, всеми четырьмя. Но как ни парадоксально, эта паршивая работка стала для меня чуть ли не подарком судьбы. Без неё мне, конечно, тоже было чем заняться в гордом одиночестве, но с ней… У меня совсем не оставалось свободного времени суток. Что и требовалось. Как от суток, так и от меня.
Три-четыре часа в день я учил язык.
Кроме того, редактировал еврейскую газетку.
Кроме того, опять же редактировал еврейский и окололитературный сайты.