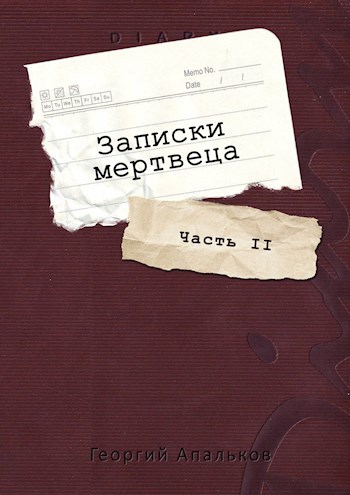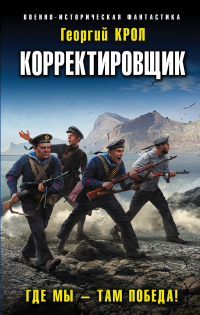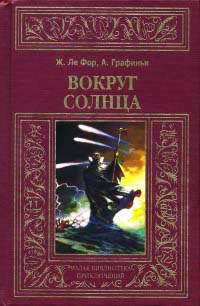Книга Степан. Повесть о сыне Неба и его друге Димке Михайлове - Георгий Шевяков
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Я не шутки шутить приехал, ди-тят-ко, — зловеще по слогам произнес Степан последнее слово. — Я все могу, — пальцем закивал он на бумажный лист на столе, — И все знаю. От меня не уйдешь. А с кодлой твоей я разберусь, да так, что весь город задрожит.
Не менее пяти минут стояла потом в доме тишина, так что Ксения, прислушиваясь к звукам из дому, начала тревожится. Но потом мужчины вместе с перепуганным, потерявшим весь свой залихватский вид Витькой вышли из дому. Бросившейся к ним сестре Кудрявцев сказал: «Ты, Ксюша, не томись. Сейчас разберемся с его знакомыми и вернемся домой. И все станет хорошо. Вот увидишь». Мужчины сели в четверку и уехали, а женщина долго смотрела им вслед, потом села на крылечко и стала ждать.
В кафе на улице Ленина (такие уж были времена, что центральные улицы всех городов и деревень России назывались именем злобного карлика, затеявшего самую кровавую смуту на Руси) было тихо и немноголюдно. Степан пока остался в машине, а дядя с племянником уселись за столиком у окна, заказали чай и, попивая его, изредка перебрасывались словами.
— Дядь Юр, ты не думай, что я какой-то закоренелый бандюган, — волнуясь и оправдываясь, шептал Витька. — Они меня угощали, на дискотеку вместе ходили, ну выпить там, покурить вместе. А потом на «атасе» попросили постоять. Не мог же я отказать, дядь Юр?
— Запомни, Витя. Прежде чем что-то делать, подумай, чем это может кончиться. Если бы ты попался милиции, то неважно, на стреме ты стоял или шуровал в киоске. Сел бы ты в тюрьму, и даже я не смог бы тебе помочь. Матери бы горе навек принес, род бы наш опозорил. Да и жизнь бы свою сломал. Стала бы она — эта жизнь у тебя — как день и ночь: тюрьма да воля, пьянки да лесоповал. Ни просвета, ни радости. Кто туда попал, Витька, не возвращается. Не телом не возвращается, душой пропадает. Вовремя твоя мать спохватилась. Не пустим мы тебя в такую жизнь. А что касается твоих …(он ненадолго умолк, обдумывая слово) «подельников», другого выражения здесь не подберешь, поверь, не друзья они тебе. Не из дружбы, приятельства, доброты или симпатии делились они с тобой сигаретами, вином, деньгами. Заманивали они тебя в свою стаю. Это как прокаженный мстить здоровым людям, стараясь заразить их своей болезнью, сделать подобными себе — гниющими, отверженными, обреченными, так и эти в кавычках «твои друзья» хотели сделать тебя мелким пакостным, злым.
— Они идут, дядь Юр, — прервал его шепот племянника, смотрящего в окно. — Вон те, в куртках.
Проследив его взгляд Кудрявцев увидел трех парнишек, пересекавших улицу, вида одновременно смешного и наглого. Их можно было назвать простыми и обычными ребятами, если бы не громадные не по размеру кожаные куртки, внутри которых вальяжно, судя по лицу, передвигались щуплые плечи, если бы не застывшее высокомерие на еще детских лицах, и неспешная вразвалочку покачивающаяся походка. Не как три богатыря, какими видимо представлялись они себе, на как три богатыренка шли они плечом к плечу через широкую улицу, заставляя ехавшие машины останавливаться. Два-три автомобильных гудка отнюдь не заставили их прибавить шагу, разве что крайний слева поднял руку в популярном, благодаря американским фильмам, жесте — с вытянутым средним пальцем, — демонстрируя свое отношение к окружающим, после чего гудки умолкли: связываться с ним никто не захотел. И святая троица торжественно и безмолвно вошла в кафе.
Только после того, как они уселись, расслабились, с хрустом потянулись все с тем же ленивым и скучающим выражением лица, только после того как по мановению пальца к ним подошла настороженная и недовольная официантка и приняла заказ, взгляд одного из них невысокого плотненького и плохо побритого, остановился на Вите и глаза не то чтобы раскрылись, но мелькнуло в них как бы живое. «Витек, сколько лет, сколько зим. Чапай доселе. Гостем будешь, — громогласно на весь зал пророкотал он и призывно махнул он рукой. — Посидим, покалякаем».
— Виктор! И эти колобки твои друзья? — интеллигентно, (что, надо сказать, у Кудрявцева всегда хорошо получалось) и громко, чтобы быть услышанным, произнес Юрий Александрович. — Ты меня удивляешь. Я был лучшего мнения о тебе. С твоими талантами и твоей родословной путаться непонятно с кем? Это абсолютный нонсенс. (Слегка разведенные руки только дополнили высшую степень возмущения). Наша бабушка в гробу перевернется, узнай она такое, Виктор. Она ведь была дворянских кровей. Разве можно так огорчать покойную бабушку?
— Че, че, ты че там лопочешь, недомерок? — раздалось со стороны вожака компании, уже другого, крупнее, подростка.
— А дедушка, красный командир, — Не обращая внимания, продолжал Кудрявцев. — Его именем названа улица в городе Свистоплятове. Ты позоришь его седины. Его натруженные в мозолях от сабли руки. Которыми он громил всякую бандитскую нечисть в суровые годы Гражданской войны.
Такого оскорбления и равнодушия владыка улиц и дворов стерпеть не мог. То был удар не просто по его личному достоинству, но по новым порядкам, которые он и иже с ним устанавливали, удар по касте новоявленных хозяев жизни, чье лицо он представлял в этом невзрачном кафе. И потому грозно нахмурившись и вытянувшись во весь свой обыкновенный рост и топорща локти, чтобы плечи под зловеще черной кожаной курткой казались шире, а также не вынимая рук из карманов для наведения страха, он, мерно ступая, подошел к столу наших друзей и стал напротив.
— Ну? Здесь будем говорить или выйдем?
— Конечно, выйдем, мальчик. При людях откровенно не поговоришь, да и выражаться при дамах зазорно, а с литературными словами ты, по-моему, не в ладах. Конечно, выйдем.
С этими словами Юрий Александрович поднялся, аккуратно поставил стул