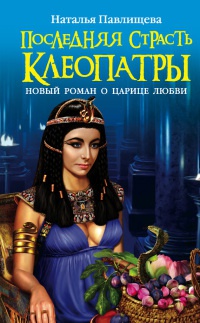Книга Дневники Клеопатры. Книга 2. Царица поверженная - Маргарет Джордж
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Таков был мой приблизительный план. Умирать я не хотела, но была готова к этому — вот в чем разница.
— А если, увидев тебя, он поддастся… твоим чарам и пожелает твоего расположения?
Я размышляла об этом. Это представлялось не слишком вероятным, ибо заклятые враги редко проникаются иными чувствами. С другой стороны, победители склонны рассматривать женщин как обычную добычу, в ряду трофеев своей победы. Овладеть женщиной Антония означало бы окончательно и полностью восторжествовать над поверженным врагом — большего трудно пожелать.
Сама мысль об этом казалась отвратительной. Я не была уверена, что вынесу такое даже ради Египта, даже ради Цезариона. Яд куда предпочтительнее. Но вовсе не обязательно сейчас во всем признаваться. Даже нежелательно.
— Сначала мне придется как следует выпить, — промолвила я. — И может быть, ты не будешь столь щепетилен и дашь мне что-нибудь, способное стереть память, чтобы добавить в бокал с вином.
Я надеялась, что сейчас подойдет именно такой ответ. Пусть думает, будто я хочу жить, пока не даст мне яду.
— Ты не остановишься ни перед чем! — воскликнул он в невольном восхищении.
— Я в отчаянном положении. Не усугубляй его.
— Я не для того спасал твою жизнь, когда ты рожала близнецов, чтобы потом убить тебя собственными руками. — Он решительно покачал головой. — Яда ты у меня не получишь.
— Значит, ты более жесток, чем Октавиан!
Ладно, не одно, так другое. Может быть, мне еще удастся уговорить его, а пока попробую заручиться его поддержкой в ином.
— В таком случае, я хочу, чтобы ты пообещал мне выполнить другую мою просьбу.
— Прежде мне необходимо узнать, в чем она заключается, — заявил Олимпий, скрестив руки на груди.
— О, ничего ужасного. Ты должен забрать из Александрии два списка моих воспоминаний и поместить один в тайник в постаменте большой статуи Исиды в ее храме в Филах. А другой отвезешь в Мероэ к кандаке.
— Мероэ! Ты хочешь, чтобы я отправился в такую даль? — возмущенно воскликнул он.
— Думаю, после прибытия Октавиана ты сам почувствуешь необходимость совершить путешествие. Ты обещаешь? Это все, чего я прошу.
— Все? Да ты знаешь, где это находится?
— Знаю. Я там была, если ты помнишь. Думаю, и тебе не помешает оставить Александрию на год или около того. А когда вернешься, Октавиана здесь уже не будет.
— А тебя? Где будешь ты? — спросил он подозрительно.
— Если ты не передумаешь, меня, скорее всего, заберут в Рим. Но давай не будем сбиваться на обсуждение других вопросов. Сначала закончим со свитками. Ты обещаешь?
Он вздохнул.
— Ну, наверное, да.
— Ты обещаешь? Даешь слово?
— Да.
— Хорошо. Я знаю, что тебе можно верить.
Время неумолимо текло своим чередом, ночи становились темнее, но мрак у меня на душе был непрогляднее, чем снаружи: сердце мое заполняли страх, ненависть и тревога. Я продолжала обучать Цезариона, показывала ему архивы, счетные книги, старалась привить знания, необходимые правителю: как отбирать чиновников, как разбирать письма по важности и по назначению, как награждать за хорошую службу и наказывать за дурную. Немало времени я проводила с Александром и Селеной, рассказывала им про Антония, чтобы они ощущали его присутствие. Я показывала его награды и вспоминала битвы, где он заслужил их. Вместе с близнецами приходил и Антилл, возможно, нуждавшийся в таких рассказах больше других. Он был одинок. Александрия оставалась для него чужой. Он вырос далеко отсюда, давно лишился родной матери, а из дома приемной его привезли сюда. Я сочувствовала ему и понимала: скоро и Цезарион окажется в том же положении. Ни отца, ни матери, ни мачехи.
«Антиллу все-таки легче, — промелькнула у меня мрачная мысль, — его хорошо знает Октавиан».
Его, по крайней мере, вернут к Октавии и будут обращаться с ним хорошо.
Что до младшего, пятилетнего Филадельфа, то с ним я просто играла, наслаждаясь его беззаботным смехом и отсутствием вопросов, отвечать на которые слишком больно.
Однажды Мардиан появился с особенно угрюмым видом, выдававшим суть полученного донесения.
— Ну, что там еще? — со вздохом спросила я.
Неприятности следовали одна за другой непрерывно, как волны, бьющиеся о волнолом. Хороших новостей не поступало вовсе, были только плохие и очень плохие. И мы ждали худшей из возможных — о том, что Антоний…
— Корабли, — простонал он, вручая мне письмо. — Малх.
Мне казалось, что меня уже ничем не проймешь, но как бы не так! Я прочла, что Малх приказал сжечь дотла мои корабли, значит, огромный труд по перетаскиванию судов через песчаный перешеек в Красное море был проделан лишь для того, чтобы к ним поднесли факелы и превратили их в головешки.
— О боги! — воскликнула я. — Все мои враги подняли головы!
Малх затаил на меня злобу еще с тех пор, как я перехватила его права на добычу битума.
— Надо думать, Дидий… это он, — осторожно вставил Мардиан.
Квинт Дидий, наместник Сирии, месяц назад перешел к Октавиану с тремя легионами.
— Что Дидий, при чем тут он?
— Чтобы доказать верность новому хозяину, он спустил на тебя Малха. Малх не посмел бы действовать без его дозволения.
— Да, ты прав.
Итак, корабли пропали. Этот путь спасения отпадает. Я уже стала привыкать к нескончаемым препятствиям и потерям. Единственное, что мне оставалось, — не опускать руки и надеяться на чудо, которое повернет вспять надвигающийся прилив. Октавиан, в конце концов, смертен. Мало ли что может случиться — кораблекрушение, лихорадка, несчастный случай… На все это, конечно, воля богов, но опыт показывает: боги идут навстречу тем, кто, не щадя сил, добивается своего здесь, на земле. Лентяев и трусов не любят ни люди, ни боги.
Значит, я буду бороться. Одна.
В Александрии осталось единственное место, сулившее мне успокоение. Пустые покои Антония стали прибежищем страданий, детские комнаты, всегда наполненные жизнерадостным шумом, напоминали о той сложной задаче, что передо мной стояла, донесения Мардиана о процветании и благополучии Египта вызывали досаду, а с Олимпием мы теперь вели игру в кошки-мышки — я скрывала свои истинные намерения.
Поездки по городу невольно заставляли меня задумываться о том, готовы ли александрийцы — такие изменчивые, приверженные удовольствиям и, конечно же, поверхностные — оказать сопротивление захватчику. Выдержат ли они осаду? Сомнительно. Обстрел из баллист и катапульт? Вряд ли. Во всяком случае, они не станут класть головы за впавшего в немилость римского военачальника. А за меня? Кто знает. Когда меня проносили по улицам в носилках, все взоры обращались ко мне и темные глаза поблескивали. Они оценивали меня точно так же, как я — их.