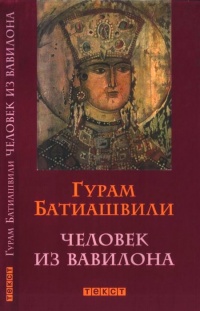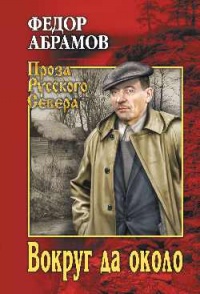Книга Юрий Поляков. Последний советский писатель - Ольга Ярикова
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В общем, издатели отказались от его услуг, но Юра успел заработать немалые деньги и решил потратить их на дом в Переделкине, чтобы, уйдя на покой, полностью отдаться зеленому змию на воздухе, под шум литературных сосен. Он взял под застройку пепелище от казенной секретарской дачи — результат пиротехнических забав сына Риммы Казаковой Федора Радова, сочинявшего странные и грязные романы, вроде «Змеесоса». То был талантливый и страшный, в сущности, парень — тихий блондин с поросячьими ресницами. По рассказам, Федя выбил глаз однокласснице, и только связи влиятельной матери спасли его от колонии для несовершеннолетних. Помню, по просьбе Риммы Федоровны я взял его на учет в комсомольскую организацию Союза писателей: в прочих местах от него все давно отказались. Иногда чиновная мама со своим помощником поэтом Владимиром Савельевым, похожим на приземистого трансформера, присылала мне взносы за сына, который так ни разу и не показался ни на одном собрании. Он, как и многие советские мажоры, подсел на наркотики и подсадил на них своих сверстников-соседей, обитавших в знаменитом писательском доме в Безбожном переулке на задах Склифа. Почти никто из них не дожил до тридцати. «Выглянешь в окно — снова из подъезда гроб выносят! — со слезами рассказывала мне Галина Степановна, жена поэта Кострова и редактор моего молодогвардейского сборника «Сто дней до приказа». — Ну просто нет сил смотреть… Двадцать пять лет, двадцать семь, двадцать девять…»
Решив, как и большинство писательских отпрысков, пойти по стопам родителей (отец его был видным журналистом-правдистом), Федя как-то навалял и притащил в журнал «Литературная учеба» почти документальную повесть про связь своей матери с поэтессой Инной Кашежевой. Володя Еременко, заведовавший тогда в «ЛУ» отделом, рассказывал мне, что никто в редакции так и не мог дочитать откровения болтливого сына до конца — столько там было запредельной физиологии. Сам же Радов смог в конце концов отказаться от наркотиков — ему сделали дорогую операцию на мозге, отключив «центр удовольствий». Кстати, эту тему я потом использовал в пьесе «Хомо эректус». Римма Казакова, возглавлявшая тогда Союз писателей Москвы, вынуждена была содержать сына с его дочерью (жена его тоже погибла от наркотиков — выбросилась из окна), поэтесса оплачивала все его безумства и последующее лечение, а за стихи в ту пору уже не платили. Даже за песни ничего не перепадало, хотя у Казаковой были и шлягеры:
Видимо, безденежьем и объяснялся тот печальный факт, что она стала небезвозмездно поддерживать художества директора Гюлумяна, а тот с благодарной нежностью звал ее «женщина-лев». Слова «львица» он, вероятно, просто не знал. Дело в том, что писатель-фронтовик В. Огнев, избранный председателем Литфонда, некоторое время то ли не видел, то ли не замечал злоупотреблений своего заместителя-директора, но едва он прозрел, как случился переворот, и под охраной нанятых «чоповцев» состоялась закрытая конференция, на которой Огнев был низвергнут, а председателем избрана Казакова. С этого печального события «маски-шоу» привлекались к боям за писательское имущество с той же регулярностью, с какой лейб-гвардия участвовала в XVIII веке в борьбе за русский престол. Римма Федоровна тут же с присущей ей энергией вступилась за поруганного Гюлумяна. Какое-то время этот тандем торжествовал, заняв помещение на улице Усиевича и взяв под контроль, как говорится, все финансовые потоки, весьма неслабые. У Международного литфонда в распоряжении были, между прочим, не только поселок Переделкино с Домом творчества, но еще и более пяти тысяч квадратных метров офисных и производственных помещений, включая знаменитое меховое ателье на «Аэропорте», описанное В. Войновичем в повести «Шапка». Разумеется, все площади сдавались внаем, аренда квадратного метра стоила тогда от 300 до 500 долларов в год. Вот и посчитайте!
Раз уж я упомянул Войновича, не могу удержаться от отступления. Сюжет повести и одноименного фильма незатейлив: рядовой писатель, мастер соцреалистической духоподъемной прозы, к тому же, по воле автора, еврей, подает литературному начальству заявление с просьбой пошить ему в литфондовском ателье шапку из благородного меха — ну там — ондатра, пыжик, колонок, белка… Однако получает страшную резолюцию: пошить из кота домашнего средней пушистости. Возмущенный таким небрежением власти писатель восстает против режима и погибает, преданный всеми, в том числе женой, изменяющей ему с генералом, кажется, КГБ… И вот возникает вопрос: а если бы писателю сшили шапку из ондатры, претензий к советской власти у него бы не было? Войнович, сам того не подозревая, выдал тайную пружину бузы конца 80-х. Увы, многие из тех, кто ломал «совок», хотели не справедливости вообще, а повышения собственного уровня жизни — ондатровую шапку хотели. А то, что в результате большинство останется в кроликовых ушанках или вообще без головных уборов, это их совсем не волновало. Не случайно, кстати, Войнович, вернувшись из эмиграции, вступил в Союз писателей Москвы, возглавляемый Риммой Казаковой, ставшей к тому времени еще и председателем Международного литфонда, от которого писателям не перепадало уже ничего — даже малахая из кота домашнего средней пушистости. Интересно, что Войновича это не беспокоило, и «Шапки-2» он не написал…
Так вот, все 1990-е годы я жил и работал вдали от писательского сообщества, если не считать интригу Ганичева, позвавшего меня к себе в заместители. И вот в 1998-м, кажется, году, взяв под застройку второе пепелище, я оказался втянут в разгоравшуюся борьбу. Дело в том, что вокруг изгнанного Владимира Огнева и примкнувшего к нему Феликса Кузнецова (в цеху критиков они, кстати, были врагами) сплотились литераторы, надеявшиеся с помощью правоохранительных органов отогнать жулье от писательской собственности. Честно говоря, я предчувствовал, что вступаю в сердцевину писательской свары, и поначалу отказался от предложения, но меня уговорила поэтесса Надежда Кондакова, к мнению которой я тогда еще прислушивался. Потом оказалось: им просто нужны соратники по борьбе. И я на полтора десятилетия погрузился в бесконечную войну вокруг стремительно таявшей писательской собственности. Конечно, возглавив «Литгазету», я стал печатать разоблачительные материалы о деятельности Гюлумяна. Мне тут же отвечала со страниц либеральных изданий Казакова. Боже, каких только нелепиц и гадостей не наговорила она обо мне! Я не однажды с ней встречался, показывал документы, изобличавшие бакинского беженца, Римма Федоровна ужасалась, благодарила, что я открыл ей глаза, вспоминала, как «открыла» меня на совещании молодых писателей, даже плакала от чувств… И на следующий день в эфире «Эха Москвы» несла меня снова по кочкам, обвиняя черт знает в чем…
Наконец, суд признал незаконной конференцию, проведенную с помощью «масок-шоу», и низложил Римму Федоровну. Как Людовик XVIII из изгнания, Владимир Огнев вернулся в кабинет на улице Усиевича, а Гюлумян, который казался нам порой непобедимой эманацией мирового зла, поселившейся в импозантном усатом закавказце, исчез, точно плевок с каминной решетки. А вскоре умерла Казакова: неудачно поскользнулась в бассейне. Тело выставили в большом зале Дома литераторов, и я, поколебавшись, отправился на панихиду. Все-таки до того, как оказаться по разные стороны баррикад, мы относились друг к другу с симпатией. И в самом деле, она благословила мой литературный дебют. Сливки московской либеральной интеллигенции, скорбно стекшиеся туда, смотрели мне вслед так, будто я — Сталин и пришел проститься с Троцким, зарубленным по моему же приказу. Римма Федоровна, точнее безымянная ссохшаяся старушка, лежавшая в гробу, ничем не напоминала «женщину-льва», сотрясавшую борьбой сначала советский, потом перестроечный и, наконец, остаточный Союз писателей. Все-таки поэты — счастливые люди, подумал я: от них остаются не только дурные поступки и буйные заблуждения, но и хорошие стихи…