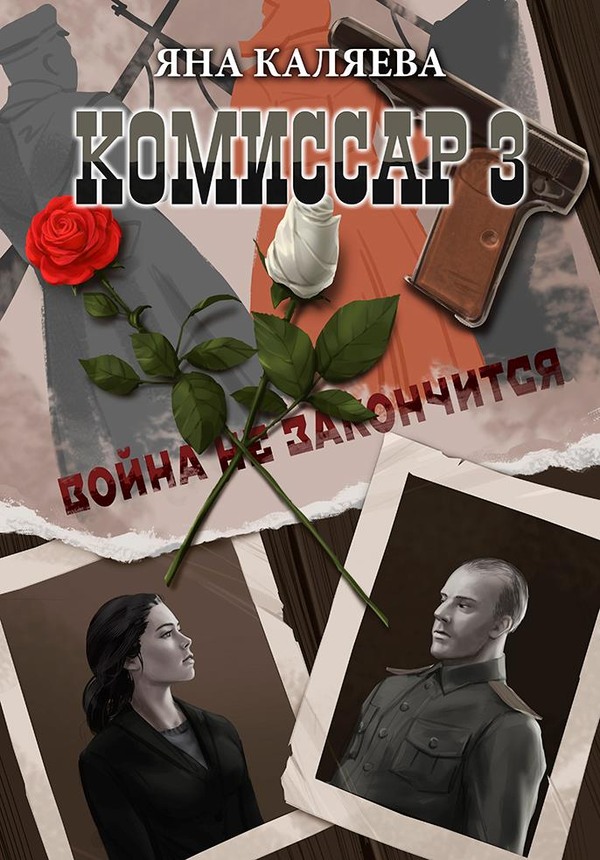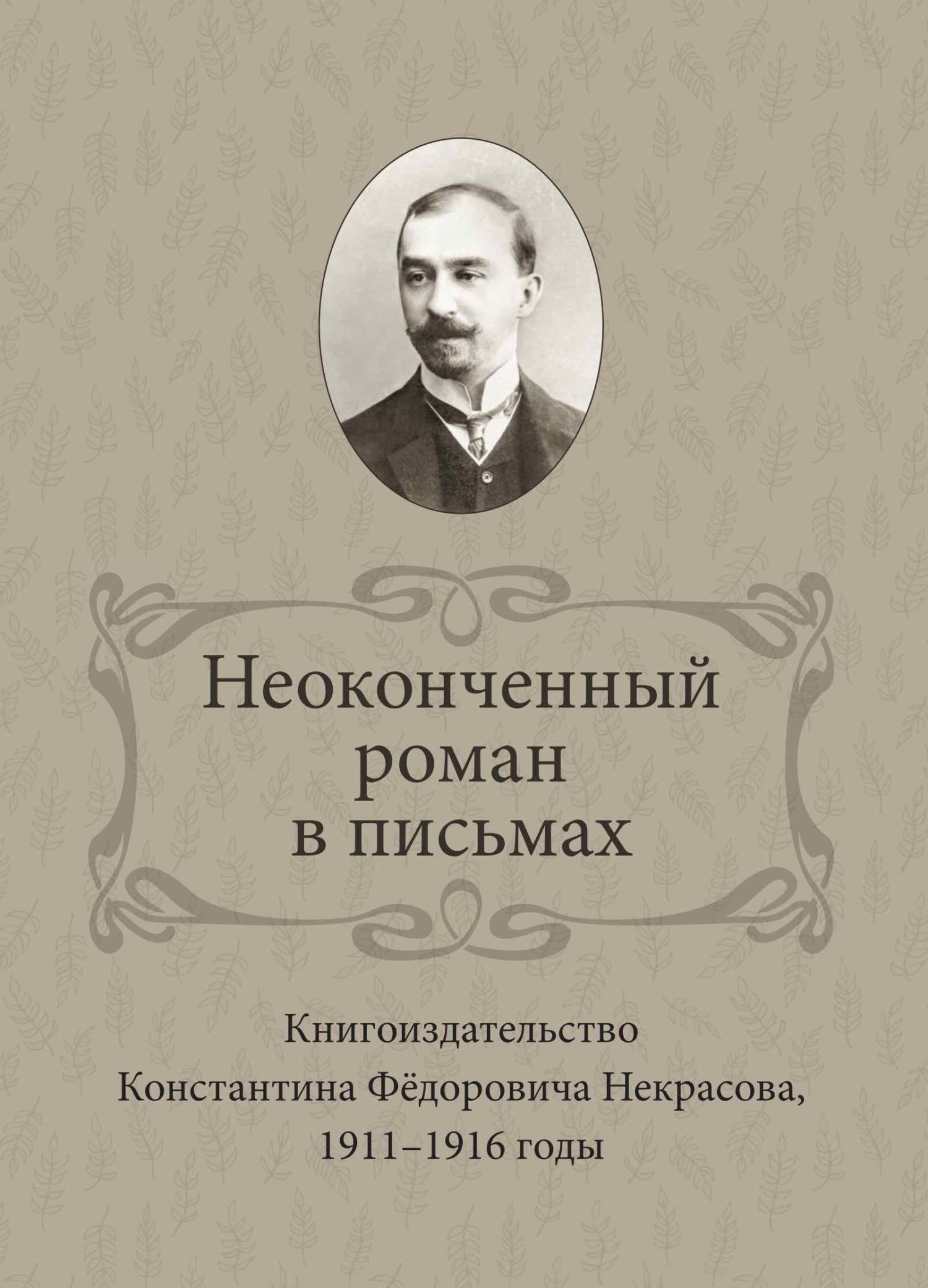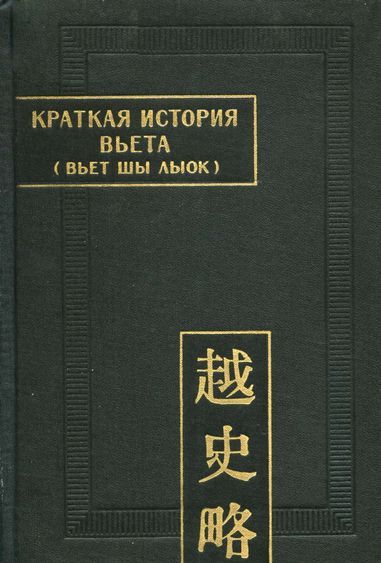Книга Наброски пером (Франция 1940–1944) - Анджей Бобковский
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Если сегодня возможности людей жить полноценной жизнью и зарабатывать на жизнь тем, что им действительно нравится, продолжают уменьшаться, у них должна быть такая возможность, хотя бы с психической точки зрения. Но это невозможно, когда конвейерное производство, работа в целом считаются религией. Работа, та, какой она стала сегодня, не может иметь ничего общего с идеалом. Но и это нам упорно внушают, заставляя искать в этом счастье. Его нельзя найти в воспроизводстве; в повторении прототипа нет ничего человеческого. Культ работы в сегодняшней форме не что иное, как отвлечение внимания, одурманивание, закабаление человеческой души и скромных остатков разума. Между тем проблема обостряется, потому что реальность оказывается иной. Культ труда невозможно сохранить перед лицом современного технологического развития. Верно, но освобождение от ига культа труда угрожает свободой личности, которая может вырваться из коллектива, хотя бы в духовном смысле. А этого допустить нельзя… С человеком, одурманенным работой, можно сделать всё.
25.8.1943
Волшебство закончилось. Опять Париж. Я сыт им по горло. В мыслях я еще нахожусь в каком-то домике, в каком-то городке, где-то во Франции. Завидую графу де Р. Он остался там, в своей темной комнатке, арендованной у старой няни. Звуки мира доходят туда, как звуки из-за стены. В сутках двадцать четыре часа. Несмотря на три недели отдыха, я чувствую себя усталым. Я устал про запас, я устал оттого, что буду уставать. Это постоянная жизнь в будущем времени, полное отсутствие настоящего (то, что происходит в данный момент, автоматически становится неважным) является самым утомительным. Тянешь себя за волосы, перетаскиваешь себя изо дня в день, как тяжелый мешок картошки.
Мы выехали вчера в полдень. Сердечное прощание. Велосипеды нагружены. Яйца, петух, масло… Жуэ исчез за поворотом, осталась блестящая на солнце полоса асфальта. Поезд отходил из Ле-Мана после шести вечера. У нас было много времени. Мы ехали медленно, жадно впитывая оставшиеся часы. Дорога восхитительна. Высокие тонкие тополя по сторонам, как колонны. Иногда длинная беседка из низких и развесистых платанов. Серпантин на склонах холмов и спящие городки. Проезжая через небольшую деревню, мы слышим сообщение из Лондона. Ici Londres…[786] — через открытое окно слышен знакомый голос. Мы останавливаемся и слушаем. На дороге только мы, дома как вымершие. Палит солнце, и такая тишина, что слышен шелест копающейся в песке одинокой курицы. Русские отбили Харьков. Начатое 5 июля большое наступление продолжается. Немцев оттесняют к Днепру.
В гору поднимаемся медленно. Когда достигаем хребта, дорога выравнивается, как качели. Съезжаем тихо, плавно. Ряд деревьев, смыкающийся перед нами, открывается и быстро отступает в стороны. Ле-Ман чувствуется издалека. В воздухе витает запах пыли. Когда мы въезжаем в город, я с ненавистью осматриваюсь. Граф де Р. заразил меня фурьеризмом и деревенским идеализмом. Мы едем по брусчатой мостовой Ле-Мана, избегая трамвайных рельсов. Автомобили, работающие на древесном угле, пыхтят, как утюги, и волокут за собой длинные шлейфы мусора и пыли. Вокзал узкоколейной железной дороги излучает тепло раскаленного на солнце металла и пахнет приторным запахом горюче-смазочных материалов. Жара. По улицам снуют потные и пыльные люди.
Я должен потрудиться, чтобы уладить все формальности, сдать велосипеды, купить билеты. Поезд уже стоит на перроне. Мы находим два места. Сидр, закрытый в термосе, не выдержал и взорвался. Течет из сетки на голову. Я отпиваю его, затыкаю термос, ничего не помогает. Он растет в термосе. В купе жара. Плюшевые сиденья липкие. Наконец поехали. Мы смотрим на мигающие домики и поля. Это напоминает мне конец каникул, те давние годы, когда я смотрел на убегающие назад поля и леса, и сердце разрывалось от тоски.
Пассажиры начинают есть. Праздник живота, разгул. Никто не ест обычный хлеб. Все вынимают белую pain brioche[787], масло, яйца вкрутую, колбасу, ветчину, холодное мясо, жареную птицу, фрукты. Из плоских бутылочек с металлическими колпачками льется ароматный янтарный кальвадос. Расплавленный в жаре настоящий камамбер превратился в густой крем с резким запахом сероводорода и аммиака. Блестящие от жира рты чавкают, жирные пальцы с причмокиванием облизываются, за окно летят бумага и скорлупа. Остальное бросают на пол. Это оргия и одновременно благоговейная мистерия, которой только французы умеют придать совершенно особый тон и атмосферу. Ты не только чувствуешь вкус, с которым они едят, но видишь его. Еда здесь не только удовлетворение голода. Это чувственное наслаждение. Здесь ни один кусочек не попадет в рот незаметно, ни один атом пищи не избежит критики нёба. Маленькая девочка осторожно открывает коробку с сыром, аккуратно трогает его пальчиком и отдает матери, обрадованно говоря: Maman, il est bien fait[788]. Французы с детства разбираются