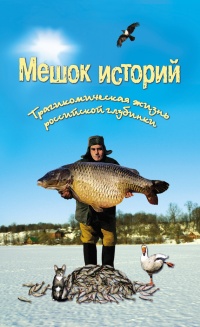Книга Плавучая опера - Джон Барт
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Ну, я, конечно, мог бы его убить, и он, не сомневаюсь, понимал, к чему идет дело, он же ведь совсем был беспомощен. А сделал я вот что: одной рукой друга этого переворачиваю на живот, так что он лицом в грязь уткнулся, а другой подтягиваю к себе ружье и штык свой, то есть штык прямо к шее ему приставляю, даже кожу оцарапал - вижу, кровь у него выступила. Дружок, вижу, совсем перетрусил, чуть не в обмороке и лопочет что-то по-немецки, сдаюсь, мол, или там пощадить молит, а может, и то и другое. Чтобы уж никаких сомнений не оставалось, я его подержал так вот по грязи распластанным еще несколько минут, кажется, даже чуть поддавил штыком, ну тут он совсем чувств лишился, телом своим не владеет - в точности как я чуть раньше тоже собой не владел, - только ревет во все горло. Видно, ужас его охватил, я же помню, как со мной было, - в общем, животное перепуганное, и больше ничего.
Но армия-то американская куда запропастилась, хотел бы я знать? Поверь, друг-читатель, так я по сей день и не ведаю, где эти армии - наша и немецкая тоже - околачивались, пока тот бой шел.
Прошу тебя, друг, читай дальше без предвзятости, не всякую же минуту тебе напоминать, чтобы выводов избегал вроде напрашивающихся и очевидных, если хочешь верно обо мне судить. Я вот как действовал: винтовку свою в сторону отложил, штык воткнул в грязь рядом с животным этим, которое из-за меня прямо в параличе валялось, и обнимаю немца, целую, будто у нас с ним любовь, какой свет еще не видел. Щеки его перемазанные, щетинистые все исцеловал, и глаза, и шею трясущуюся. Вспомнишь теперь - не верится, хорош я был, да и он тоже! Он, видно, осмелел, страх из него вышел, как прежде из меня, и час, не меньше, мы вот так вот с ним ласкались.
Вы небось подумали, ясное дело, гомики оказались, - а кто бы не подумал, я же понимаю. Только глупость это, потому как сроду я себя никаким гомиком не чувствовал, и тот немец-сержант тоже нормальный был.
Ну, повисели мы друг на друге, дрожь и унялась, руки разжались. Между нами полное было понимание, по-моему, просто исключительное понимание. Я вроде бы себя человеком наконец почувствовал, первый раз, как с грузовика спрыгнул. Все ясно сознаю, вижу все, и слышу, и воспринимаю. А снаряды над головой все визжат, визжат, только взрывались-то они не так чтобы уж рядом, а бой рукопашный, похоже, где-то уже в другом месте идет, от нас далеко.
Сидим мы с немцем по краям воронки, метров этак пять между нами, и друг другу улыбаемся, -• ведь понимание-то полное. Раз-другой пытаемся жестами объясниться, только зачем, и так все ясно. У меня табачок сухой был, а он вообще без сигарет. Зато с пайком, а мой куда-то задевался. Патронов ни у меня, ни у него нет. А йод и бинты у обоих в сумке лежат. Стало быть, сигареты и паек мы поделили, я ему царапину на шее перевязал, он мне ранку на ноге. Тут он хлопает себя по заднице и нос зажимает. И я себя по штанам хлопаю - вонища, мол. И оба мы хохочем, пока слезы из глаз не покатились, и опять обнимаемся, хотя на секундочку только, - страх прошел, и, ясное дело, стыдно стало что мне, что ему. Оглядели мы друг друга по-приятельски этак. И кажется, вздремнули.
В жизни ни к кому я не испытывал такой близости, ни с кем из друзей или там из женщин такого абсолютного понимания у меня не было, как с немцем этим. Он был малорослый и некрасивый, старше меня намного - вон уж седина кое-где пробивается; никаких сомнений - вояка, причем профессионал. Я его поближе рассмотрел, как светать стало. Спит он, а я сторожу, глаз не смыкаю, - ну в точности как львица детеныша своего сторожит, подступись попробуй. Да сунься к нам в воронку какой американец, хоть бы собственный мой папаша, я бы, глазом не моргнув, тут же его прикончил, он бы на сержанта немецкого и замахнуться не успел. Много ли значат семья или там родные, если между нами двумя до того тесная связь установилась? - вот о чем мне думалось. И что с того, что мы с ним скоро разойдемся, даже имени друг друга не узнав, он опять в американцев палить примется, а я, значит, в немцев. Между нами-то двумя уже установлено частное перемирие. И даже если, думалось мне, даже если - на войне чего не бывает - потом мы вдруг снова сойдемся лицом к лицу и, даже друг другу не улыбнувшись, не признав, в штыки кинемся, что с того? Все равно несколько часов мы с ним были словно один человек и понимали друг друга, понимали так, как лучшие приятели один другого понять не могут, как влюбленным понять не дано, - только мудрому по силам себя понимать вот настолько.
Но расскажу до конца. Вы уже, думаю, догадались, что все эти риторические вопросы потихоньку сомнение во мне разбередили. Нет, про себя-то я все точно знал, что я к немцу этому испытываю. Только ведь чувства эти сам же я распалял в себе. А он всего лишь откликнулся, не спорю, душой откликнулся, но и то вспомнить, что он мордой в грязи при этом валялся и штык мой на шее чувствовал. Правда, когда мы без лишних слов установили между собой мир, он бы много раз мог на меня напасть, а вот не напал; но, с другой стороны, он, если помните, был с виду настоящий солдат-профессионал, много чего испытавший, а мне, обратите внимание, всего восемнадцать исполнилось. С чего же я так уверился, что мы оба немыслимую симпатию друг к другу испытываем, ведь, очень может быть, я все это просто навоображал, а он про себя посмеивается, решив, мол, гомик какой-то ему попался или чокнутый, вот обожди, покемарю малость, перекурю, с силами соберусь да и прихлопну тебя одним махом. Ведь это ж до чего воякой ко всему привыкшим быть надо, чтобы так вот храпеть да причмокивать в какой-то грязной воронке, когда кругом вовсю бой. Смотри-ка, вроде даже улыбнулся. Надо мной, что ли, посмеивается?
Становилось почти совсем светло, и ощущение кошмара потихоньку начало отступать. Бой, несомненно, идет где-то вдали от нашей позиции. Интересно, это я оказался на немецкой территории или, наоборот, он на нашей? Противный вообще-то тип. Простецкая рожа, глупая к тому же. Наверное, жутко тупой. Да что тут размусоливать, ясно же, ему и в голову не могли прийти все эти мои фантазии, расскажи - он и не поймет, про что я толкую. Он же мне ногу покалечил, нет, что ли? Правда, я первый на него кинулся…
Все больше нервничая, я высунулся из воронки. Ни души не видно, только разбросаны там-сям по земле тела, одно больше другого покалеченные, по-всякому скрючившиеся, - вон и на проволоке колючей висят, и в ямах разных валяются. В воздухе дым смешивался с пылью, поднимались испарения, было довольно-таки прохладно. Нога ныла. Я сполз обратно и недоверчиво разглядывал немца, дожидаясь знака, что он проснулся. Даже взял в руки ружье (а его винтовку зашвырнул подальше) - так оно спокойнее. Чувствовал я себя с каждой минутой все более беспокойно и опасался, уж не возвращается ли страх.
В конце концов я решил потихоньку вылезти и пойти к своим, если их отыщу, а немец пусть спит. Замечательно придумано! Я выпрямился во весь рост, не выпустив винтовки и глаз не спуская с немца. Он разлепил веки, и, хотя даже не шевельнул головой, выражение ужасной тревоги мелькнуло на его лице. Тут же я на него бросился и ударил штыком в грудь. От удара этого он отупел, а я, налегая всем телом, так и пришпилил его к стенке, только штык уперся в кость грудины и не шел дальше.
О Господи! - проносилось у меня в голове. - Прикончить не смогу, что ли? Он ухватился обеими руками за дуло моей винтовки, пытаясь ее от себя оттолкнуть, но я ведь стоял на ногах, так что мне давить было сподручнее. Какую-то секунду мы молча боролись. Я не мог оторвать взгляд от штыка, а он, боюсь, от моего лица. И тут острие соскользнуло с кости, это мы оба постарались, вот вам последнее наше общение! - издавая жуткий такой, хотя едва слышный звук, когда рвется ткань, вошло ему в шею, насквозь, и он начал умирать. Я бросил винтовку - никакая сила в мире не заставила бы меня ее выдернуть! - и, споткнувшись о его оседавшее тело, ринулся прочь. Мне повезло, наткнулся я на своих, на американцев, после этого сражение для меня кончилось.