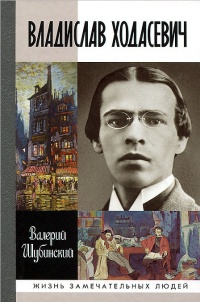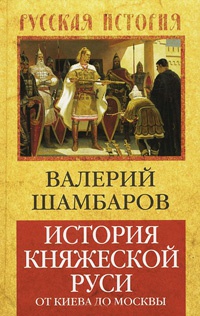Книга Лета 7071 - Валерий Полуйко
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Обведя взглядом бояр, Иван потупился и, не поднимая глаз, вновь заговорил – резко, с властной, суровой сухостью:
– Пишет свойскому Жигимонт, что, деи, мы, московиты, – враги христианские, что с нами вечного мира нельзя иметь и ни дружбы, ни союза… Сие також не в новость нам. То извечная ложь ляцкая супротив нас, московитов… И кознования, и вражда их лютая. Вспомнить, как Казимир в бытность свою призывал на Русь ордынского хана Ахмата, хотя деда нашего, великого князя Иоанна, сокрушить – так вящего и не надобно! С такими же хульными речами и обговорами посылывал он тогда в Орду татарчука Кирейку Кривого, холопа дедичева, сбегшего от него к Казимиру. И призвал-таки хана на землю нашу! А нынче и внук его, злохитрым обычаям следуя, кличет на нас переконского и свойского, да и иные злохитрства вздумывает… Воевод наших к измене подбивает, грамоты им шлет скровные, в свою землю перезывает… Сын боярский, князь Кропоткин, прислал к нам таковую подлую грамоту, привезенную ему в Торваст литвинами. Вот дьяк Михайлов зачтет ее…
Висковатый вышел наперед, развернул свиток, неторопливо прочел весьма искусно составленное послание троцкого воеводы Радзивилла, в котором тот от имени польского короля и литовской Пановой рады предлагал Кропоткину отъехать в Литву, выставляя ему на вид царскую жестокость.
– Вот она, ляцкая злокозненность, – проговорил раздраженно Иван, как только Висковатый закончил чтение. – Лукавством, а не своим королевским дородством тщится одолеть нас Жигимонт. И сыскалось средь нас злое Иудино семя!.. Отдались ляхам душами. Да над ними уж свершилось заслуженное, и не о том наши нынешние заботы. Нынче нам… – Иван чуть запнулся: нам – сейчас значило и им, боярам, и душа его приняла это не без протеста, но внешне в нем это не проявилось. Не затем он созвал их, смирив свою гордыню, чтобы опять затевать с ними свару. Не того хотел он… Сам не знал почему, но в последнее время, особенно после Полоцка, все острей и острей стал ощущать он потребность в совете. Может быть, оттого, что слишком много скопил в себе одном, слишком много взял, взвалил на себя, а Полоцк сделал ношу еще тяжелей – почти непосильной, и тогда-то и появилась эта обостренная потребность, которая поначалу погнала его в Дмитров, в Песношский монастырь, – к Вассиану Топоркову, а теперь заставила наступить себе на душу и призвать бояр.
– …допрежь за все рассудить надобно и порешить, – продолжил он с раздумчивой озабоченностью, – на чем нам с литвинами мириваться?.. Да и мириваться ли? Стали они нам в Ливонии поперек… Не хотят допустить нас к морю. А без моря государству нашему теснота великая и ущерб. Возговаривают Жигимонту на сейме паны его, что ежели присоединит он к тем своим гаваням, что в прусской земле у него, еще и ливонские, то станет владеть всем морем. Сие и нам разуметь надобно и не отступаться от Ливонии. Да и потому еще, что ежели теперь отдать Жигимонту Ливонию с ее крепкими городами, то сколько силы прибудет его королевству! Во сколько тяжче нам станет управляться с ним!
– Видишь, государь!.. – не утерпел и подал голос Немой. – Сами мы вынудили ливонцев отдаться Жигимонту. От нашего меча подались они к нему. А не наступи мы на них, не учини им теснот, были б они сами по себе, как ранее, дань бы нам отдавали и сколько бы забот нам убавили?!
– Вам бы токмо забот поменее… – Иван откинулся к спинке трона, как бы отстраняясь от них ото всех. – Вы и с Русью так – она сама по себе, а вы сами по себе.
– Мы, государь, благодетелями отечества не выставляемся, – с дерзким спокойствием ответил Немой. – Мы ведаем твои мысли, что наши чаяния ему не впрок… Токмо животы наши, положенные в бранях, да кровь, пролитая за него, едино ему впрок.
Иван остался невозмутим, только чуть смежил глаза – как от боли. Нелегко давалось ему нынешнее спокойствие.
– От задонского поля Куликова до полоцких стен – весь тот путь, государь, полит и нашей кровью, – продолжил Немой – уже вызывающе. – Ан все ставишь ты нас отщепенцами, все хулишь, глядя токмо вперед и токмо своими глазами. Ан пригоже оглянуться, государь, и назад, ибо мир начался не твоим рождением и Русь не твоим воцарением стала Русью.
– Возложивший руку свою на плуг, не озирайся назад, речет нам Господь, – сказал спокойно, с суровой непреклонностью Иван и, помолчав, так же сурово, но не зло, скорее пристыжающе-наставительно, прибавил: – А чести в том и достоинства нет, что вы на каждое слово государя своего бросаетесь с лаем, будто собаки. Таковым вам на псарне место, а не перед столом государевым.
– Прости, государь, – преклонил голову Немой, – но не наша вина, что ты правду за лай принимаешь.
– Правду?! – Иван вскинул суровую бровь. – У всех она разная – правда! У вас своя, у меня своя… Токмо нынче недосуг мне правдами с вами мериться. Я созвал вас, как прежде, сложив с сердца все наши нелюбья и вражбы. Время нынче приспело, каковому быть ли еще! Русь стоит у великих врат… Я привел ее к ним и отпер их, и как человек я стремлюсь вперед, но как государь я остепеняю себя, берегусь человеческой опрометчивости, ибо… – Иван вдруг резко поднялся с трона, соступил с невысокого помоста на пол, устланный коврами, пошел по палате, туго ссучив за спиной пальцы рук. Одет он был в суконный облегающий кафтан, длинный, до самых пят, и аспидно-черный, как ряса, отчего казался похожим на монаха – но только с первого взгляда, потому что тут же в глаза бросалось другое – его совсем не монашеская, надменно-грозная выспренность и властность, которой черный цвет его одеяния придавал какую-то мрачную истовость и зловестие.
Пройдя по палате, Иван вновь вернулся к престолу, взошел на помост, но на трон не сел, стал перед ним, тяжело, будто сознаваясь в чем-то недостойном, сказал:
– Там, за теми вратами, мы можем добыть и могущество нашей отчизне, и славу, каковой еще не знавала она, но також… и бесславие, и беду. Ибо, ежели мы оступимся, пошатнемся, нас немедля повергнут! Понеже теперь супротив нас все…
Иван помолчал, прямо, в упор, порассматривал бояр, сошел с помоста, приблизился к ним и так же прямо, без обиняков, не подбирая слов и не следя больше за своей речью, принялся излагать им самое страшное:
– С Литвой супротив нас – Польша… Перекопский супротив нас… Свей також, споткнись мы, полезут на нас. И Казань, и ногаи, и черемисы лише часу ждут. Как почуют нашу слабость – також супротив пойдут. Они уж и нынче впотай с перекопским ссылаются, кличут избавить их юрт от необрезанных. Вот сколько окрест нас врагов! А друзей – никого! Фридорик дацкой с нами в мире, однако ж не в дружбе, понеже и он на Ливонию зарится, как алчный пес, и он не прочь прибрать ее к своим рукам. Император?![261] Искали мы с ним союза… Да нашим недругам там легче сыскать приязнь, бо князья императора – саксоны, да бурги[262], да пруссы – сами до Ливонии больно охочи, Жигимонт с ними крепкую дружбу держит, задабривает их, ухлебливает, дабы они отводили от нас императора. Дошел даже до того, что отдал бурским князьям в наследование свою прусскую землю… Вот как ищет супротив нас Жигимонт! И все, все они в том лютеровом вертепе ищут противу нас! Мы одни… Но с нами вера наша правая и Бог! – воскликнул торжественно Иван.