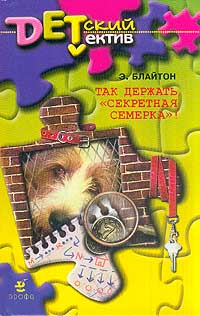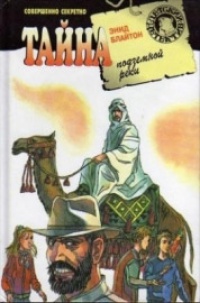Книга Случайному гостю - Алексей Гедеонов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Духами бабушка забивала запах табака. Во всяком случае маскировала его. Для этих целей изводились также килограммы земляничного мыла, зерна кофе, но Болгартабак не сдавался — его легкий шлейф, затёртый «Быть может» и земляничным мылом, сопровождал бабушку повсюду. Курила она давно и как-то очень органично — легкая дыминка всегда присутствует в моих о ней воспоминаниях. Она признавала три марки — «Опал», «БТ», «Герцеговину Флор» и самодельные, скрученные на машинке; табак для последних она придирчиво выбирала в маленькой лавчонке размером с щель на Ормянской, потом сушила с черносливом, вишнёвыми листьми и какими-то лепестками, рубила здоровенным тёмным тесаком и хранила в «пенале», в плотно закупоренной подозрительно ободранной жестянке, с надписью Zvar и действительно — табак пах зверски. Раз в месяц, извлёкши порцию «тютюна», бабушка, с немыслимыми предосторожностями, под шелест неиссякаемых запасов чёрной папиросной бумаги, с лёгкостью истинной «сигареры» крутила на маленькой машинке тонкие и жантильные ароматные чёрные палочки. Машинка называлась «Персиан» и уютно скрежетала.
Сигаретки бабушка держала в другой битой временем жестянке, с изображением Марии-Терезии. Как-то раз я не удержался и пририсовал к имперским устам «папыроску», фломастером.
Бабушка, сурово укоротила жизнь тубусу с фломастерами: «Жебы не бить тебе руки!» — сказала она мне, добродушно. И стала прятать осквернённый ларец в пенал.
На ехидные расспросы мамы, адептки мнения «курильщик должен знать и помнить, что он отравляет не только себя, но и других», — «Чем будете портить здоровье?», я всегда отвечал: «„Пенал“ любимая её марка. Так, бабушка?»
Если бабушка считала нужным ответить, она беззлобно поддакивала и отрешённо изрекала: «Всё уйдёт с дымом… Направду, дорогой мой?»
«Я ведь не курю, уже, — говорила она маме. Та в ответ приподнимала бровь. — Я наслаждаюсь, — замечала бабушка, — такое…»
— Пошли, Лесик, — сказала бабушка. — Между справами[46] зайдем в магазин и на Ормянскую…
— А потом? — жалобно спросил я, ноги снова вымокли и, после увиденного в тенях знания, меня до сих пор мутило.
— Потом будет после, — улыбаясь сказала бабушка, от улыбки вокруг ее зеленых, крыжовенных глаз залегли меленькие морщинки.
— Знаешь, кто почти так сказал? Нет? Эмма! Я расскажу тебе о ней дорогой… хотя может и зарано.
— Бабушка, мне надо покушать, — решительно сказал я, вызывая в памяти булочки с корицей.
— Адвент, — кратко сообщила бабушка, — то час мыслить про главне. Три раза не досыта… Но так и быть — на Ормянской будет кава, можливо. Она оглянулась, поправила сумку и крепко взяла меня за локоть.
— Когда выйдем из рынка, Лесик, — сказала бабушка, и я отчётливо увидел чёрную окантовку её радужек, — зобачишь вбогую старушку, кинешь ей грошик… на. Дальше не смотри. Не оглядайся.
— Так власьне, — продолжила она, делая руку калачиком, чтобы мне было легче ухватиться. — Дла початку[47] там так — одна женщина, также убогая, вкрала в склэпе…
У самого выхода под аркой, действительно восседала на железном ящике из-под молочных бутылок древняя бабулька в зеленом платке, у ног ее была расстелена газета, прижатая пятью камнями, на газете в произвольном порядке были разбросаны всяческие неаппетитного вида коренья, соцветия и мешочки с зернами. Посередине газеты виднелась картонка из-под торта, где бабулька держала кассу, в эту кассу я и бросил монетку.
Только выпуская ее из пальцев, я увидел, что отдаю старухе здоровенный потертый серебряный талер.
Монета шлёпнулась в картонку, глухо звякнув о лежащие там медяки. Мимо, обгоняя нас, прошли несколько человек, два пузатых дядьки несли навстречу мешок, озабоченные граждане торопились, толкаясь, на подползающий из пелены тумана трамвай.
Бабушка больно стиснула мне руку, оборвав пересказ фильма, прошипела:
— Сказала, не оглядайся!!! — и ускорила шаг.
Я оглянулся. Ну, в конце-концов — мне было двенадцать лет, и я до сих пор упрямец…
Я оглянулся и сразу пожалел. Прямо за нами, среди снующих туда-сюда людей, вырастая из черной нахальной галки, вышагивал невысокий невзрачный человечек в старомодном черном камзоле с блестящими пуговицами, в черных же коротких брюках, заправленных в высокие ботфорты. «Мюнхгаузен!!!» — мелькнула мысль. Голова его была непокрыта — черные с сильной проседью волосы, стянутые в косицу, дождь со снегом, непрестанно моросящий с неба, обходил стороной, как и бледное треугольное длинное лицо с раздвоенным подбородком; глаза его казались совсем белыми, за исключением зрачков, метящих, словно дротики, в самые глубины души. Всего страшней была улыбка — обещавшая столько неприятных минут, сколько ты сумеешь продержаться в его обществе на этом свете.
Цокали подковки ботфортов, чуть слышно звенели шпоры, остальные звуки мира исчезли — черный человечек улыбался и шагал за нами вслед, чуть припадая на левую ногу. Он приветливо помахал мне рукою в черной перчатке с раструбом, и краски реальности задрожали, становясь тусклыми и ненастоящими, рынок дрогнул, меняясь, и вот призрачные серо-зелёные силуэты, всегда носящиеся на нашем пути, явственно проступили среди враз выцветших людей. Я услыхал, что где-то прозвенел колокол, заплакали дикие гуси, засвистел ветер… Бабушка волокла меня вперед и ей было тяжело — идти мне не хотелось.
Тут древняя старуха, сидящая у входа в рынок, протянула руку к линялому мешочку на своей газете, достала оттуда туго скрученный фунтик. «Семечки!» — подумал я, но ошибся — в фунтике были не семечки. Надорвав бумажный конус снизу, старуха бросила его под ноги черному человеку, кулёчек шлёпнулся в лужу… и поначалу ничего не случилось, затем время наконец догнало нас и события понеслись вперед словно в старой-старой хронике — толкая друг друга в спину.
Из надорванного фунтика, валяющегося на земле, повалил дым зелёного цвета: поднимаясь вверх, он оплел своими космами сначала ноги черного человека, заставив того замереть, затем охватил его по пояс, затем вцепился в плечи. Нельзя сказать, что наш преследователь не отбивался — пару раз в вязкой зеленой дымке мелькнула шпага, удушено звякнули шпоры, глухо прозвучала ругань, но бесполезно. Поизвивавшись несколько минут в плену зеленого тумана, камзольник развалился на куски. Каждый из кусков, ударяясь о землю, стал ворохом слежавшихся листьев.
Первыми вернулись звуки: некто весьма холёного вида, в высокой ондатровой шапке и светлой дублёнке, затейливо матерился, вступив в кучу гнилья, еще недавно бывшую нашим преследователем. Звенел трамвай, грохотали по брусчатке колеса машин. Странноодетые силуэты стерлись, поблекли — рассеиваемые обычными понурыми и тусклыми гражданами. Восемьдесят четвертый год не приветствовал ярких цветов в одежде.
Липкая, холодная волна страха откатилась.
Бабушка пошла очень тихо, а я и вовсе пошатывался.