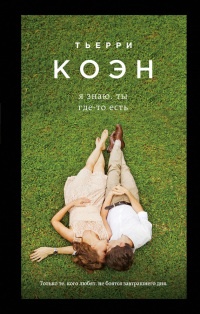Книга Если очень долго падать, можно выбраться наверх - Ричард Фаринья
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Но он так и не показал тебе солнечного бога.
— Его накрыли. Как-то вечером я вернулся с припасами, и не нашел ничего. Окна заколочены, никаких следов. Только несколько засохших огрызков кактусов, да скорлупа опродотворенных яиц. Ходили слухи, что свою старуху он угробил, в подвале типа камеры пыток, клещи и кислота, рыболовные крюки. А, да, водосточная труба — из нее хлестали потоки воды. Жуть.
Блэкнесс чуть отпустил педаль акселератора, придав наступившей паузе должное значение, и несколько секунд они опять слушали шум колес.
— Это как-то связано с пачуко? Из твоих посланий было трудно понять.
— Никакой связи с Матерболом, просто я завис в том бойскаутском лагере еще ненадолго после его ареста. Думал, последнее место, где будут искать засвеченных. И кстати, единственный кусок пустыни без клинексов и пивных банок. Было, конечно, подозрение, что скауты чем-то повязаны: медальки за своевременный донос и все такое, но в целом оказалось — нормальная крыша. Пока не принесло пачуко. — На этот раз он нарисовал на стекле букву П. — Пригнали на двух «пакардах» — они залипают по большим белым машинам, — двенадцать, может, тринадцать чуков. Гибридные физиономии, поросячьи глазки, мешанина кровей, не выше пяти с половиной футов, взбитые начесы, у каждого возле большого пальца татуированый ребус: три маленьких точки. Зло в чистом виде, понимаешь.
Гноссос замолчал и поерзал на сиденье: теперь он смотрел в никуда, органы чувств воспринимали только басовитый вой мотора, подкладку его истории.
— Кто может знать, что у них на уме, Калвин? Они появились в лагере бухие, но бухие по-плохому: этиловый спирт с сотерном «Галло» и текилой, говно типа того, — пригнали так, точно неделю не видели спальных мешков, понимаешь? Сидят и точат стилетами ногти. Да, и еще трясутся под музыку, как бы в такт. Радио в «пакардах» орет — на одной и той же станции, там Бадди Холли. «Пегги Сью», кажется. Обступили одного бойскаута — белобрысого такого, на нем еще была навешана куча всякой дряни: почетные значки, нашивки звеньевого. Они на него даже не смотрели, просто стояли, пока не доиграла песня. А трое — нет, двое приперлись к моей палатке и говорят что-то вроде: «не рыпайся, мать твою, ухо отрежем».
— Только к тебе.
— Только ко мне, из всех, индивидуально, вот так. Потом вернулись в кольцо вокруг этого скаута. Который, ясен пень, только подливал масла в огонь. И когда музыка пошла в масть, они стащили с него одежду, со звеньевого, по самые яйца, старик, просто ободрали. И как же он дерьмово перепугался, не кричал, только тихо скулил. Они прикололи его к земле, понимаешь, колышками от палаток, а потом стали тыкать бычками. Даже в эту штуку.
Блэкнесс резко прикрыл глаза, но выражение его лица не изменилось. Гноссос не заметил.
— И все время эта хрень «Пегги Сью» по радио. Один, самый старательный, все время бубнил, вроде как утешал. Так бабы разговаривают с собаками, знаешь? Повторял, что все будет хорошо, что он хороший мальчик, даже погладил его по голове, а другой рукой запихал последний окурок в ухо.
— Господи, Гноссос.
— Звеньевого наконец вырвало. Чуть не задохнулся. — Паппадопулис привирает, добавляя остроты. Говори только правду — и рассказ тебя затянет. Блэкнесс хмыкает, будто собираясь что-то сказать, и оглядывается на Гноссоса, затем, притормозив, сворачивает с главной дороги к своему дому. Дождь все сильнее стучит по крыше машины, и в резко наступившей темноте зеленый огонек приборной доски красит их лица в совсем другой цвет. Разгорается и гаснет в неком дополнительном среднечастотном диапазоне.
Гноссос отвернулся и посмотрел через боковое стекло на знакомые холмы и низины, потом откинул с лица прядь волос и коснулся рукой носа; секунду таращился на него, скосив глаза, затем снова перевел взгляд в окно.
— После этого я отключился. То есть натурально слетел с катушек. Ищешь чего-то простого, а находишь в одном месте все язвы своей страны. Понимаешь, даже на этот проклятый закат я не могу смотреть просто так — он мне что вывеска на мотеле «Жар-птица». Которая, между прочим, во-первых, больше, и во-вторых, черт бы драл, дольше горит.
— Ты хотя бы пытался.
— Клянусь твоей задницей, пытался, но меня все равно забрали. За бродяжничество — самая идиотская статья. Легавые, старик, если они хотят кого-то загрести, то загребут, неважно за что, — это просто легавый синдром. Самодовольные наглые ублюдки, сцапали, когда я уходил из города, ползли сзади на первой скорости, дожидаясь, когда оглянусь. Естественно, я улыбнулся, как только показался проклятый знак, и это все решило. Если человек улыбается или смеется — значит, над легавым: например, что у того пузырятся штаны или пуговиц не хватает. Уже перед самой городской чертой обогнали меня и говорят: «Сколько у тебя денег, пацан?» Я смотрю на него — понимаешь как, да? Снял рюкзак, прислонился к столбу и смотрю прямо ему на нос. — Гноссос издал звук, будто его рвет: — Блуааааа!
— Дальше.
— Черт, старик, я не просек, что они со мной играют. Влез к ним в машину и сказал, чтоб попробовали на меня что-нибудь повесить. Это их добило. Они озверели. Если бы я был темнее на рожу, они отбили бы мне почки. Если б я был Хеффалампом, остался бы с поломанными ребрами. Так потом и вышло: в три часа ночи они сцапали одного пачуко и со всей дури измолотили его пряжками. Но мужик был крут, должен тебе сказать, — как-то тяжело и очень злобно. Даже когда полились слезы, это все равно получилось круто. Вот так, а я вполз обратно в свой Иммунитет: ни валентности, ничего вообще. Старая добрая инертность, без нее никак. К такой срани, как там, даже близко подходить нельзя.
— А бороться?
Гноссос принялся непроизвольно теребить волосы и откидывать их назад.
— Мало греческого, старик. Слишком много коптского. — Со стекла снова потекло, капли теперь срывались часто и падали ему на штаны. — Наутро меня выставили из города; шериф косил под Джона Уэйна, пальцы за ремнем, сказал, чтобы я валил покорять запад. Но я по пустыне обошел город и после полудня вернулся обратно — солнце в это время жарит, легавые спят, поэтому я прикинул, что можно найти пуэбло, узнать, чего там делают индейцы, когда Матербол пропал. Но это не пуэбло, старик. Только дурацкий викторианский особняк торчит среди полыни. Покрашен киноварью. Во всех комнатах в силках болтаются дохлые сороки, мебель красного бархата, кермановские ковры, мягкие алжирские оттоманки, портреты деятелей англо-бурской войны. И запах, скажу я тебе, — так может вонять только смерть. Я все это видел через окно, кстати говоря, — и не подумал лезть внутрь. Я рассчитывал на что-то более божественное.
— А не дьявольское?
Догадливый, скотина.
— Может быть, не знаю. На почтовом ящике — полустертое имя, что-то вроде Мо-жо, толком не разобрал. Сон еще приснился, как раз той ночью, когда по пути в Вегас меня подобрала цаца из Рэдклиффа, муза, можно сказать. Тот пачуко, о котором я тебе рассказывал, — у него слезы превратились в перья и теперь липли к щекам. И что-то там с матерью: она отнимала его от груди, потому что еще целая очередь стояла на кормежку. Потом ее сосок превратился в кусок хирургической трубки, и она повесила ребенка на крючок в викторианском доме.