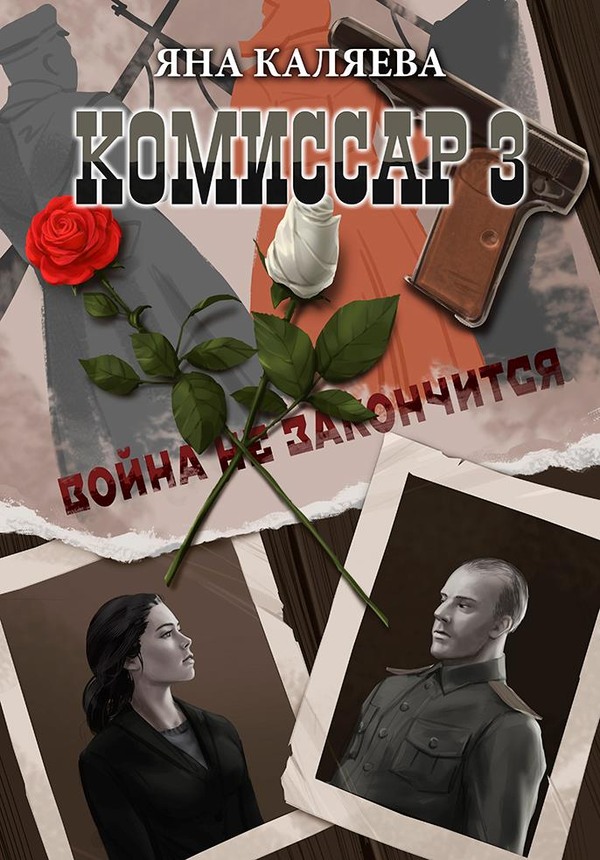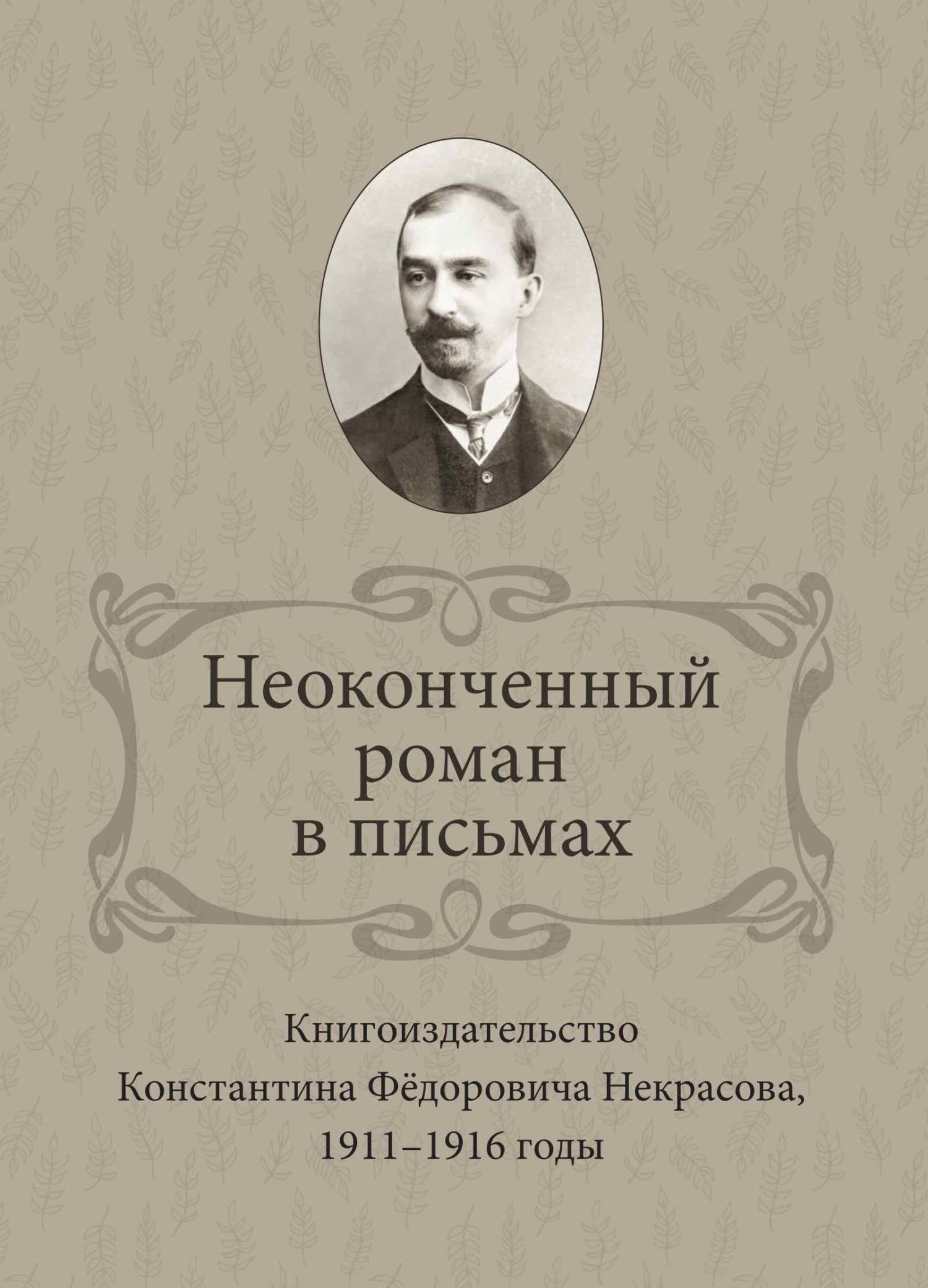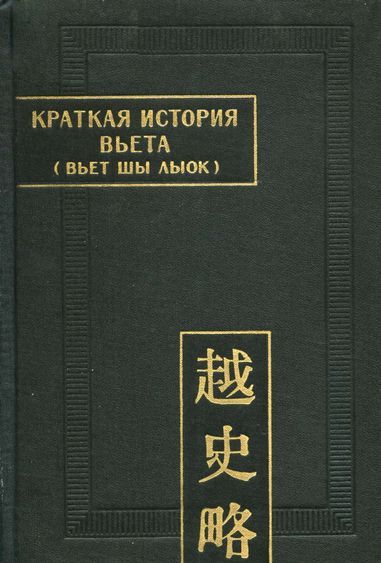Книга Наброски пером (Франция 1940–1944) - Анджей Бобковский
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
4.8.1943
В этом году здесь спокойнее. Может, потому, что меньше людей. Нам приносят завтрак в постель, потом мы спускаемся вниз. Не знаю, что происходит со мной, но мне даже не хочется разговаривать. Я сажусь в углу и молча клею для мальчиков маленькую модель самолета. Потом иду в другой угол, сажусь и смотрю прямо перед собой. Слоняюсь по дому вдоль стен со старым оружием. Захожу в нашу комнату и, усевшись в кресло, позволяю образам проплывать в моей голове. Мне хорошо. Я не хочу и не могу читать, не хочу думать и говорить. Смотрю из окна на лужайку перед домом. Бася сидит на земле в кругу широко разложенной юбки и рисует. Дети молча сидят, склонив головки над ее рисунком. Они могут часами так сидеть и смотреть, как карандаш бегает по бумаге, как рисунок покрывается красками. Они тихие и вежливые, почти заколдованные. А поодаль ходит, ковыляя, маленький Филипп, совершая свои первые странствия. Иногда присаживается, оглядывается, будто все время что-то ищет и не может найти.
В комнате холодно, как в старом, годами неотапливаемом доме, теплый ветерок влетает в комнату через окна. Церковные часы дважды бьют одно и то же время, чтобы его могли услышать далеко в полях. К вечеру небо затягивается тучами, и наступают долгие, серые часы. Здесь все белее, чем у нас, и мне никогда не приходит в голову слово «серый». Я брожу по дому и слушаю Бальзака. Он говорит со мной образами. Когда в сумерках я опираюсь о старый комод и смотрю на комнату с унитазом, спрятанным в стене, с распятием над скамеечкой для молитвы, я вижу другой дом, на Луаре — «La Grande Bretèche»{76}. Я слушаю короткий рассказ доктора Бьяншона о виконтессе де Мерре. Слушаю? Нет. Скорее, вижу. Там был маленький, глубиной в четыре фута, cabinet de toilette[749] в спальне мадам де Мерре. Прикрываю глаза и вижу, как она прислонилась к камину. Она слышала, как он вошел. А там спрятался другой. Виконт де Мерре снимает со стены распятие. «Клянусь», — шепчут побелевшие губы. «Громче… и повторяй: Клянусь перед Богом, что там никого нет». И потом медленно поднимающаяся, кирпич за кирпичом, стена. За ней исчезает дверь маленького cabinet.
Все кажется настоящим, живым, как будто это было вчера. Я не знаю, то ли запах комнат, то ли слова людей и виды напоминают мне Бальзака, то ли он сам напоминает мне о них. То ли все это — он, то ли он сам — все это. Только в такие моменты чувствуешь, как это велико, непостижимо. Именно здесь понимаешь замечательное высказывание Кайзерлинга о том, что Данте и его «Божественная комедия» были для Средневековья тем же, чем был Бальзак и его «Человеческая комедия» — для девятнадцатого века. Ее нельзя сравнить ни с чем.
Я уже видел мэра. Он такой любезный, спокойный и энциклопедический… Еще я видел священника, гуляющего вдоль церкви и читающего молитвенник всевидящим вокруг оком. Я сказал ему: «Bonjour Monsieur le curé»[750], и он пробормотал в ответ: «Bonjour, bonjour»[751]. Он уже знает нас, так как нас знает весь Шамбеле. «Они все языкастые пустомели», как говорила о Вандоме Розали, разговаривая с Бьяншоном. И мы знаем, что старая графиня де Ц., живущая в особняке, не может поладить с горничной, которая служит у нее 45 лет. Придется с ней расстаться… Вот будет тема для разговора. Послезавтра должен приехать новый префект и выступить пред фермерами. Опять новый префект. Они все время меняются. Правительство начало такое тесное сотрудничество с немцами, что ни один порядочный человек не хочет сотрудничать с правительством. В администрации постоянная свистопляска.
Я вхожу в гостиную. Здесь множество интересных книг. «Бернадотт», «Венецианские любовники» — история пребывания Ж. Санд и Мюссе в Венеции и еще кое-что. У меня нет сил взять в руки ни одну из них. Я предпочитаю высунуться в окно и слушать, как шумит ветер в черных елях, окружающих дом. Со стороны соседней фермы доносится кряканье уток, визг насоса и шум воды. Иногда в гостиной сидит Роберт и пишет письма. Я прячусь за пианино и слушаю скрип пера по бумаге. При полной тишине в этом звуке есть совершенно неземное спокойствие. Слушать, как кто-то пишет, — смешно…
5.8.1943
Какие длинные дни. Один день здесь равен неделе в Париже. Жизнь кажется такой короткой, что нужно в нее втиснуть как можно больше. Для меня больше всего происходит тогда, когда ничего не происходит. Каждый день здесь действительно наполнен жизнью. Чего стоит день, когда хоть минуту можешь не думать или когда есть возможность не думать совсем. Жизнь все больше превращает нас в существ, думающих наполовину, торгующих лоскутами, ходячих тряпичников. Средний уровень интеллекта современного человека, в том числе и мой, больше похож на разбитую мозаику, странную головоломку, которую практиче-ски невозможно собрать в единое целое. Фрагменты бывают ослепительные, но им не хватает той части, кусочка, с которого можно начать строить целое. А когда человек не знает, что из этих мыслей можно сложить, с какого пазла начать, человек теряет интерес.
Мысли окружающих меня людей не представляют ничего особенного, они очень скромные и материальные, по большей части это мысли о деньгах, о еде и о собственности, но это целое, основанное на чем-то. И это постоянство, порядок, «несмотря ни на что» чувствуется здесь на каждом шагу. Вся атмосфера пронизана прежде всего индивидуализмом. И возможно, имен-но это оказывает такое успокаивающее воздействие. Здесь каждый является определенным типом, что-то из себя представляет. Просто потому, что он связан с землей, с домом, с инвентарем. Здесь я начинаю понимать значение собственности и ее влияние на внутреннее формирование человека. Человек, имеющий что-то свое, не может