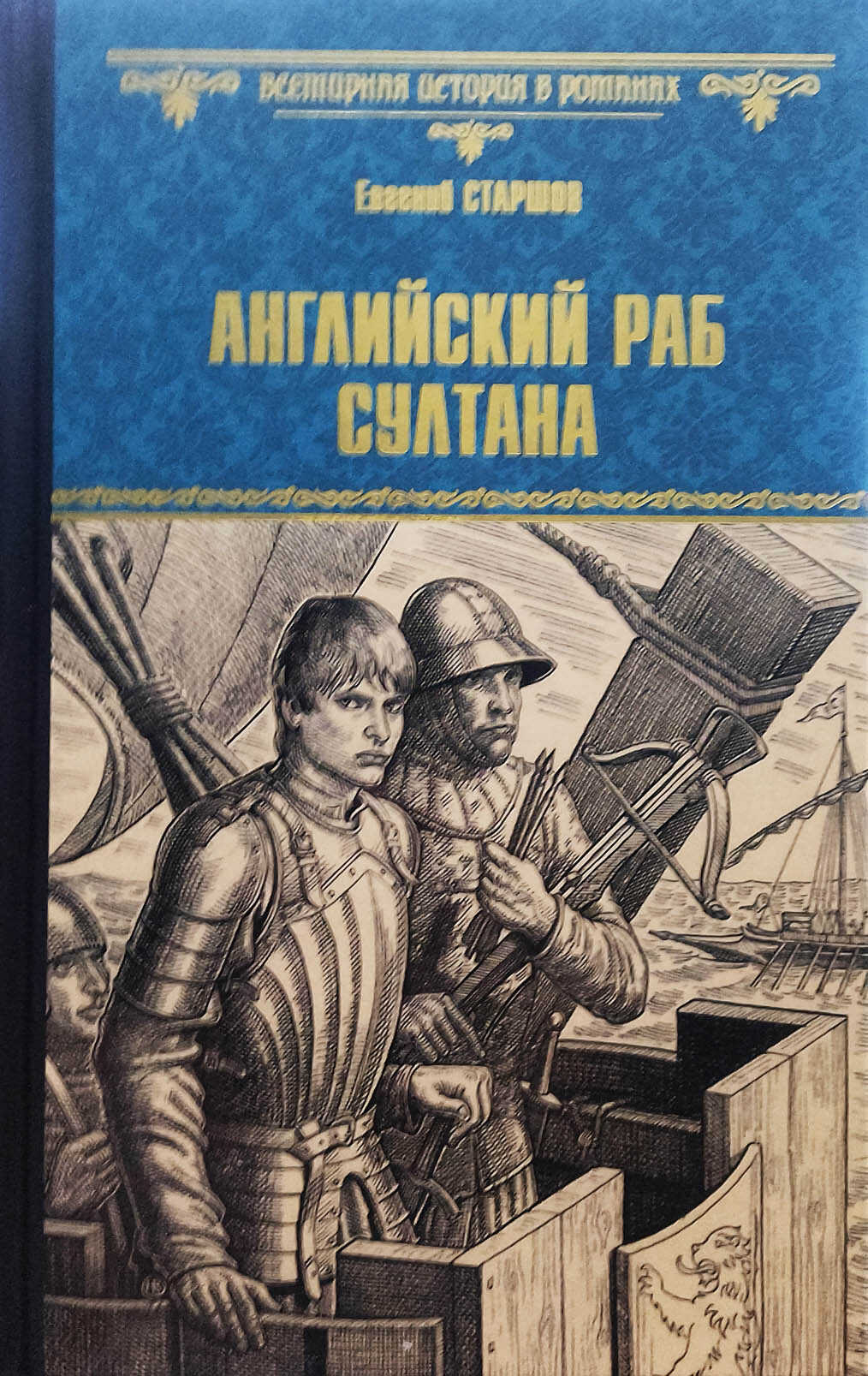Книга Двое строптивых - Евгений Викторович Старшов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Именно так.
— И сколько модиев[10] ты мог бы продать?
— С позволения великого господина, я бы вывернул этот вопрос наизнанку: не сколько я могу продать, а сколько вы можете купить. А еще точнее, сколько именно вам нужно. За мной дело не станет, я и еще людей могу привлечь. Тем более, пока перемирие, сам Аллах велел торговать. От вас мне нужен будет только патент, а паша, я думаю, не будет возражать, особенно если в цену нашего договора заложить ему хороший бакшиш. Да простит меня великий господин, что я так сразу говорю об этом, лучше по возможности купить хлеб, хоть и не слишком дешевый, чем в нужное время остаться без запасов.
Д’Обюссон хитро посмотрел на Хакима — ой и хитрый был этот купчина, сразу все сообразил, но, главное, упираться не стал. Для француза, конечно, не было новостью, что некоторые турецкие торговцы не отличаются щепетильностью в подобных вопросах и запросто готовы торговать с врагами и иноверцами, если это им выгодно. Но ведь и христианские купцы с готовностью делали то же самое, невзирая на гневные окрики из папского Рима.
— Тогда и это дело мы постараемся решить к завтрашнему дню. Сейчас мы вас покинем — до завтра, вы же отдыхайте. Эта резиденция к вашим услугам. Если что-то вам понадобится — сообщите рыцарю д’Армо, и все ваши желания будут исполнены, исключая передвижение в пределах крепости. Не сочтите за обиду — таков порядок, который мы не можем нарушить даже ради самых дорогих гостей.
Подкислив, таким образом, елейное расставание с послом-купцом, а на деле действительно расстроив тайную миссию Хакима, магистр вышел со своими доверенными лицами из "обержа" и тут же хмуро отдал Филельфусу краткое распоряжение:
— После вечерни вместо ужина собрать всех "столпов", кого можно застать, во дворец. Также желательно и архиепископа. Обсудим ликийское дело, да заодно и о хлебе поразмыслим — прошу тебя подготовить бумаги по тунисскому зерну. Быть самому, и тебе, Гийом, как вице-канцлеру. Фабрицио, Антуан, Ги — можете быть свободными.
Ги де Бланшфор на правах близкого родственника решился заметить:
— Дядя, может, не собирать совет "столпов"? А если собирать, то зачем так скоро? Ну, побудет тут турок лишний день, ничего ему не сделается.
— Разве в турке дело? — возразил великий магистр. — Я не хочу прослыть тираном, который решает все единолично. Я, конечно, предварительно договорился с купцом насчет зерна, но твердо ничего не обещал. И если мое решение не будет поддержано другими братьями, смирюсь. — Магистр Пьер вздохнул, но тут же взял себя в руки и продолжил: — Кроме того, поставь себя на место несчастных пленников: хотел бы ты сам лишний день провести в рабстве? То-то… Поэтому и с собираем совет так скоро. Ведь не только зерно мы будем обсуждать, но и их судьбу. Может, изыщем средства и не придется мне выкупать наших братьев на свои деньги.
…Вечером магистр молился в дворцовой часовне, расположенной на первом этаже и посвященной почитаемым орденским святым: Екатерине Александрийской и Марии Магдалине[11].
Небольшая по размеру, она была украшена гобеленами с изображениями житий сих святых жен. Магдалина, сообразно средневековой иконографии, была изображена дородной, с длинными распущенными волосами, символизировавшими то ли ее прежнюю греховную жизнь, то ли последовавшее за ней покаяние, и с баночкой с благовониями, которыми она умащала тело Христа. Екатерина была повыше и немного похудее Магдалины, с короной на голове, знаменовавшей ее царское происхождение, с ветвью райского древа и обломком шипастого пыточного колеса в руках.
Мы бы не стали останавливаться на описании этих святых, но читателю, возможно, интересно будет мысленным взором посмотреть на единственных женщин, которые скрашивали досуг великого магистра. В отличие от многих рыцарей ордена, д’Обюссон являл собой моральный образец, поэтому мог с полным правом упрекать других братьев в несоблюдении устава.
…Окончив молитву, он направился в Великий зал магистерского дворца, где состоялось совещание с высшими орденскими сановниками. Присутствовали шесть "столпов" из восьми. Отсутствовали арагонский "столп" Николас Заплана и германский, он же казначей, Иоганн Доу.
Автор с удовольствием назвал бы имена прочих, но никого, кроме Джона Кэндола, английского "столпа", и двух других вышеназванных "столпов" не удалось извлечь из исторического небытия. Давать им вымышленные имена — нехорошо, поскольку в этом повествовании автор старается по возможности ничего не выдумывать… Так пусть же сановники именуются по своим должностям!
Среди людей сновали все те же вездесущие орденские собаки разных расцветок — белые, рыжие, полосатые, походившие на мастифов и старых, классических бульдогов, имевших мало общего с нынешними бульдогами. Бесились в озорной игре две маленькие обезьяны, путаясь в своих цепях, намотанных на валики в рамках, прикрепленных к полу. Эти приспособления давали обезьянам передвигаться по комнате, но не давали лазить и "обезьянничать" по полной.
Солидные собаки уже не обращали на обезьян особого внимания. Те же, что помоложе, порой, когда обезьяны слишком приближались к ним, лаяли на проказниц, а большой зеленый попугай сидел на подоконнике и оценивал все происходившее своим критическим взглядом.
В окнах обращали на себя внимание разноцветные оконные витражи. Стены зала были украшены росписями (плохо видимыми вечером), но главным украшением здесь мог считаться мраморный камин с причудливыми каменными орнаментами.
Свет факелов мерцал на полированной роскошной резной мебели, обильно украшенной позолотой. На стенах висели гобелены на библейские сюжеты. Интерьер дополняли стоявшие у стен доспехи.
Магистр, сильно уставший за день, тяжело прошествовал к своему трону с высокой спинкой, задрапированной синей тканью с вышитыми на ней золотыми узорами, и сел, а у его ног мгновенно улеглись два полосатых пса, сопровождавших его еще в утреннем обходе.
По обе руки от трона располагались восемь сидений для "столпов", рядом с которыми — места для архиепископа Убальдини и сановников рангом пониже.
Джулиано Убальдини — живой, темпераментный итальянец — остался в анналах истории он благодаря тому, что в 1474 году сманил в унию родосскую Церковь во главе с ее митрополитом Митрофаном, некогда провозгласившую "самостийность" после перехода во Флорентийскую унию Константинопольской Церкви.
Убальдини был достаточно проницателен для того, чтобы не лезть, по крайней мере, чрезмерно, в магистерские дела, и д’Обюссон был ему за это признателен и старался также не влезать в юрисдикцию архиепископа, лишь иногда вмешиваясь в то утихавшие, то вновь вспыхивавшие православно-католические дрязги в качестве миротворца, поскольку от Митрофана тут толка никакого особо ждать не приходилось.
С принятием унии положение его еще более пошатнулось: образованная греческая верхушка Родоса, давно уже перешедшая в