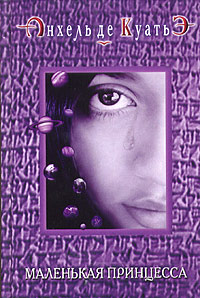Книга Река без берегов. Часть 2. Свидетельство Густава Аниаса Хорна. Книга 2 - Ханс Хенни Янн
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Я говорил тихо, словно обращаясь к себе. Он лишь качнул головой, заставив меня замолчать.
Он сказал, после того как надолго задумался:
— Мне не хватает слов, чтобы описать себя. Иногда я кажусь себе дрейфующей по реке лодкой, иногда — неуязвимым выносливым животным. Я сконструирован совсем просто. Двухцветные обрезки бумаги были перемешаны. Время, час за часом, запускает лапу мне в грудь и извлекает наружу то желтые, то красные клочки.
— Ах, — сказал я, — такими словами ты только маскируешь себя. О силах хаоса, о твоем возрасте, о поступи твоего прошлого, о твоей причастности к благам человечества, о задыхающейся борьбе, о бунте против потоков событий — обо всем этом мы из них ничего не узнаем. Я уже пытался подвергать твою личность толкованиям. Они всегда оказывались недостаточными. Для меня это стало слишком трудно — распознать человека. Прежде у меня в запасе были разные суждения и категории; но теперь как раз самые определенные высказывания представляются мне ложными. Повсюду я вижу непостижимую плоть. Непостижимую материю, которая растет и подвергается распаду; у которой едва ли есть начало, которая обречена на неведомый конец и имеет некоторый промежуток судьбы. С момента достижения нами зрелости мы думаем о смерти. Но как же сильно меняется этот образ страха или тоскования! В период появления у нас первой цветочной пыльцы мысли о смерти кажутся частью безумия, в пропасть которого мы, как нам представляется, падаем. Зримое обнаружение смерти было бы для нас сладострастнее самого сладострастия, все еще внушающего нам страх… Позже, когда мы обретаем право любить (мы и не сомневаемся в том, что именно великое событие любви своей панической мощью потрясает основы нашего бытия), возникает желание умереть вместе с лучшим плодом нашего существования: любимым человеком. Мы просветляем смерть, сообщая ей персональный характер. И на протяжении какого-то времени мы готовы клясться, что добровольно принесем себя в жертву… Между тем сама длительность нашей жизни неумолимо приводит к тому, что мы изнашиваемся. Реальные столкновения с умирающими выглядят иначе, чем в наших грезах. Они приносят разочарование. Эти мертвецы больше не оглядываются назад, больше не смотрят на нас, если их дух уже переступил роковой порог, — пусть даже тело еще остается с нами на протяжении какого-то времени: часов или дней. Умирающие знают, что уходят в одиночество, и потому освобождают нас от всех клятв. Они бросают нас, как предатели. Как предатели, которыми мы были всегда, и они вместе с нами. С незапамятных пор — с самого начала — мы жили как полип, который протягивает щупальца во все стороны, чтобы где-нибудь ухватить добычу. Наши глаза, уши, нос, рот и чувствительная кожа — а также засунутый в нас желудок — расположились в водовороте мировых откровений, чтобы присвоить какой-нибудь выигрыш: какое-то переживание, какое-то счастье, какое-то невыразимое чувство, развитие как таковое. Любовь, казавшуюся нам столь четко очерченной — наподобие блока из стекла, — уместнее уподобить незримым подвижным газам воздуха, которые проникают всюду, отклоняются в сторону, ласково овевают нас, как теплый ветер, и обдают ледяным дыханием неутолимой тоски. Даже вернейшие из верных хоть раз да воспринимали морскую воду, в которую они погружались, как нечто более ценное, чем жаркие объятия любимого человека. — Если судить меня по всей строгости, то я очень виноват. Моим рукам случалось прикасаться к разной плоти. Ноздри лошади, даже мягкая шкура кота порой дарили мне подлинное телесное счастье: ощущение товарищества с таким же, как я, плотским существом. Я знаю — или, по крайней мере, думаю, — что мои переживания, это слабое разнообразие впечатлений, не нарушили ни допустимого порядка скрещиваний… ни даже нравственности как таковой. Намерения Универсума простираются очень далеко.
— Мне такие мысли в голову не приходят, — сказал Аякс с некоторым высокомерием. — Провидение устраивает все проще.
— Провидение, — сказал я, — трудное слово; мне кажется более правильным придерживаться фактов и реальных обстоятельств. Человек не может жить, не подвергаясь наказанию. Всякая любовь, даже маленькая, приносит и выигрыш, и потери. Мы не можем отрицать обмена веществ, механического аспекта нашего бытия. Даже нежнейшие душевные движения оставляют после себя какие-то отбросы. Мы целиком и полностью представляем собой всего лишь место действия для потоков событий, мы целиком и полностью наполнены болью, целиком и полностью являемся удачным приспособлением для переваривания пищи. Мы наполнены мыслями — это запутывает нашу жизнь; наполнены потребностью в утешении — это делает нас слюнтяями, фальсификаторами, неудачниками, предателями по отношению к нам подобным.
— Да ладно, — сказал он, — этот экскурс в сферу возвышенной низости ты можешь не продолжать: твои выводы, правильны они или нет, ничему не помогут. Бывают такие человеческие принципы, с которыми нельзя жить. Аскеты — не самые симпатичные из наших современников; но они остаются на дороге. Ты не аскет — но оказался в жидкой грязи придорожной канавы.
Только теперь, услышав его отповедь, я вспомнил, что более не готов раскрываться перед ним. Что касается почти заглохшего желания, чтобы он был мне товарищем, то я хотел — и почти осуществил это — такое желание в себе задушить. Мне не хватало злобной раздражительности, подлинно враждебного чувства. Мне в буквальном смысле пришлось применить к себе насилие, чтобы произошло мое отчуждение от Аякса. Я при этом следовал головному стремлению, а не подлинной потребности. Неожиданно, словно бросая вызов, я сказал:
— Моя жизнь уже в прошлом, твоя — в будущем. К сожалению, с нашей общностью дело обстоит именно так. Ты, наверное, возразишь, что у меня остались нереализованные желания. — Конечно. Такое никогда не кончается: мы хотим приникнуть к чьей-то груди, потому что всякие горести, стыдные для нас обстоятельства, даже наше стремление к справедливости и покою не прекращаются никогда. Наши лицевые мышцы хотят смеяться и плакать — до тех пор, пока наш дух регистрирует качания маятника в ту и другую стороны. Но что значит такой импульс, порожденный мгновением? Как глубоко он проникает в нас? — Можно быть старше, чем я сейчас, и все же ощущать блаженство, которое заключается в том, что ты ласкаешь девичью грудь. Жизнь долго оставляет в нас столько внутреннего жара, что мы радуемся, если у нас под боком — рядом с нами в кровати — есть кто-то, кого можно обнять. Мы не равнодушны к теплу другого человека. Мы больше не разборчивы и охотно разделим такое драгоценное мгновение даже с незнакомцем — лишь бы он был приятным для нас, молодым! Ах, мы не будем придирчивы, мы едва ли станем приглядываться, какими качествами одарила его Природа. Нас вполне удовлетворят аромат свежей кожи; соответствие самым поверхностным представлениям о человеческой привлекательности; мягкие, будто ластящиеся мышцы; решительная готовность отдаться… Но мы знаем, что мы обманщики. Мы теперь принимаем всерьез только собственное удовольствие, но не душу другого человека. Настоящие избранники нашего сердца, спутники нашего прошлого, которых мы изучали лучше, с большим рвением, чем теперешних случайных возлюбленных, — вот им мы хотели бы хранить верность, да только они от нас отдалились: лежат в могилах, или уже несут на себе приметы распада, или, как и мы, задыхаются под грузом былого и не-исполнившегося. Мы больше не хотим хранить верность кому бы то ни было. Мы — жалкие нищие, протягивающие исхудалую руку за подаянием. — Но для нас возможно и просветление: если мы твердо решим, что больше не хотим нищенствовать, что мы находим разумным уклоняться от случайных соприкосновений, что мы отказываемся от красивых бедер, от загадочных взглядов молодых людей. — Мы и хотели бы обманываться, но больше не можем: девушки или юноши, если они прислуживают старику, ожидают, что им за это заплатят.