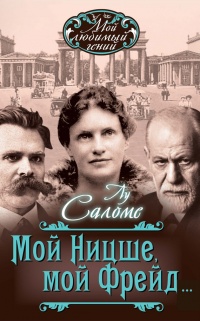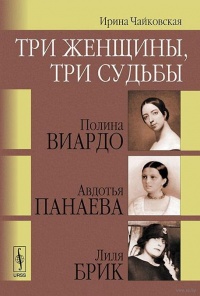Книга Три фурии времен минувших. Хроники страсти и бунта. Лу Андреас-Саломе, Нина Петровская, Лиля Брик - Игорь Талалаевский
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Но когда Ты, усталая и изнеможенная, говоришь мне: «Вот так я найду покой», — как отвечу я Тебе: «Нет, Тебе не надо покоя». И опять я повторяю Тебе: «спроси себя, хочешь ли только покоя? Если да, то все, все, все, что я могу, я сделаю, чтобы помочь Тебе достичь его, — все, хотя бы для этого должно было мне пожертвовать своими заветными надеждами. Если Ты хочешь жить с Робером и если Ты хочешь этого внешнего успокоения, этой тихой могилы, — у меня не достанет духу остановить Тебя…
Впрочем, я должен сказать, что жизнь с Робером — это во всех смыслах лучшее, что, как теперь выяснилось, представляется Тебе за границей. Опыт этих месяцев убедил меня, что Тебе нечего искать в Париже. Что «новой» жизни Ты себе не создашь там. То мимолетное, что Ты рассказывала мне о мексиканцах и испанцах, то краткое, что сообщала о днях, «опять проведенных безумно», — наводило на меня такую грусть, что порою хотелось написать, закричать Тебе: «Брось все, возвращайся сюда, все, все лучше, чем это!» И я уверен, что жизнь Твоя в Париже, если не будет с Тобой Робера, станет сплошным «безумием», сплошной серией мексиканцев и испанцев, хотя Ты сама и знаешь, и сознаешь вполне, что они ни на что не нужны Тебе. Все, все лучше, чем это! Всякое отчаянье лучше, чем это «безумие»!
Ты спросишь меня, что я же думаю о Тебе и Твоей жизни. Что же я могу (не скажу «предложить», но) представить иного для Тебя? Ты пишешь в своем письме: «Ты все время повторяешь, что эта разлука лишь средство найти возможность быть опять вместе. Но я никогда не понимаю этих слов… Что значит быть опять вместе? Душой? Чувствами? Но так я с тобой всегда, а внешних возможностей для нас нет»… Попытаюсь объяснить свои слова, а больше — свои чувства.
После нашего страшного последнего года, после нашей страшной последней весны, я одно время желал лишь одного: только бы это не повторилось! Я чувствовал, что вторично пережить такие месяцы я не в силах (да и Ты была бы не в силах!). Лучше умереть, сойти с ума, — все лучше, чем снова провести ряд «тех» ночей! И вот, под влиянием этого ужаса, я и твердил Тебе, что нам должно расстаться. Но даже тогда, даже в последней своей измученности, никогда не думал я, что наша жизнь врозь должна длиться вечно, всегда. Мне казалось, что между нашими душами установились такие неодолимые связи, что они должны влечься одна к другой, не могут в жизни не быть вместе, — вместе в простом, житейском смысле слова, т. е. рядом, встречаясь, на одном месте земного шара. Мне казалось, что наша «разлука» нужна нам только как средство найти себя, опомниться, образумиться. Когда долго и тщетно, и тщетно бьешься над решением одной задачи, полезно бывает отложить бумагу и карандаш в сторону и позабыть об ней на время; через некоторое время, вернувшись к задаче, вдруг, легко и сразу, находишь ее решение. Мне представлялись месяцы, проведенные нами с Тобой врозь, чем-то вроде этого времени, когда, отложив бумагу и карандаш, намеренно не думаешь о задаче. Но это не значит, чтобы я хотел совсем отказаться от ее решения.
Скажу прямо и просто. Я всегда думал, что Твоя жизнь за границей будет лишь временной, что жить Ты вернешься в Россию. По глубокому моему убеждению, жить русскому человеку, а особенно русскому писателю, возможно только в России. Россия нам нужна как наша стихия: вне ее мы временно дышим даже бодрее, словно в атмосфере, где более кислороду, но потом задыхаемся и жаждем вернуться в родной воздух. Вспомни последние годы Тургенева и его томления вне России. Прочти последнюю книгу Бальмонта (которую я Тебе посылаю) и особенно его поэму «В белой стране». Ты увидишь, поймешь, что значит быть без России, без той России, которую все мы клянем и клеймим последними словами. Я всегда думал, что Ты в Россию вернешься.
Но я всегда думал и думаю до сих пор, что эти месяцы, проведенные нами в разлуке, не будут потеряны. Что до меня, я чувствую, что за эти месяцы многое в моей душе успокоилось и прояснилось. (О, как бы мне хотелось, чтобы и Ты могла сказать это об себе!) Я чувствую, как в моей душе моя любовь к Тебе из дикого пламени, мечущегося под ветром, то взлетающего яростным языком, то почти угасающего в золе, стала ровным и ясным светом, который не угасит никакой вихрь, ибо он не подвластен никаким стихиям, никаким случайностям. Я чувствую в себе твердое и бодрое желание быть с Тобой, Тебя любить, заботиться о Тебе, сколько это в моих силах. Я чувствую, что эта необходимость быть в жизни с Тобой стала для меня столь осязательной, столь непобедимой, что во имя ее стало для меня доступно многое такое, что раньше казалось недоступным.
Я был бы счастлив, если бы эти дни разлуки Тебе показали бы хотя бы только одно: что и Тебе необходимо в жизни быть со мной; что без меня для Тебя жизни нет. Ты мне много раз говорила это, но я желал бы, чтоб это, так сказать, априорное суждение стало бы для Тебя ощущением, чувством, болью. Я желал бы, чтобы и Ты сознала, что ради этой необходимости Ты готова, Ты способна на некоторое такое, на что раньше не считала себя способной.
Как реально я представляю себе эту нашу будущую жизнь «вместе»? О, никаких радужных картин я нарисовать не могу. Не хочу завлекать Тебя никакими соблазнами неисполнимых для меня обещаний. Говорю, строго и спокойно, заранее, что не может и эта, вторая наша жизнь быть чужда боли и мучения. Но сам я не страшусь боли и не уклоняюсь от нее. Я готов на новые мучения («новые», не те, не прежние) и потому имею право звать к ним. Те основные противоречия, которые когда-то ломали нашу жизнь пополам, остались на своих местах. Я по-прежнему не могу изменить своей жизни. Я не могу изменить ее, потому что у меня нет сил совершить те-то и те-то поступки (которые Ты знаешь) и потому что это значило бы отнять у себя возможность посвятить моему искусству те немногие годы, которые остались у меня для творчества (что их осталось немного, теперь знаю точно). Не пишу обо всем этом подробнее, ибо здесь всё, каждый изворот мысли уже прослежен нами. — Но думается мне, верится, что теперь из этих старых, неизменных противоречий открывается нам новый выход.
Я думаю, что теперь, если только в Твоей душе свершилось то же, что в моей, если месяцы разлуки доказали Тебе так же, как мне, что мы должны быть вместе, — Ты отречешься, откажешься от иных своих слишком прекрасных надежд, как я отказался от своих. Ты не будешь более во мне искать своего идеала, как я не жду более от Тебя «подвига». Ты примиришься с формами моей внешней жизни, как я примирился с Твоим Робером… Примиришься, как я примирился, потому, — что увидишь, что за пределами всего этого есть еще для нас жизнь прекрасная, безмерно прекрасная и бесконечная! Я никого не знал на свете и не знаю, кто был бы мне ближе, чем Ты. Мне все кажется, что и я всех ближе к Тебе. Только одной Тебе могу я говорить последние тайны своей души, только с одной Тобой могу я быть как сам с собой, только перед одной Тобой я — я. Неужели же месяцы нашей жизни врозь, наши новые встречи с новыми людьми не научили нас, что нет ничего выше этой близости, ничего в мире драгоценней, ничего в возможностях — прекрасней! Неужели ради этой близости не пойдем мы оба на крайние уступки и на величайшие жертвы, на какие только способны!
И потом, разве эти месяцы разлуки не доказали Тебе (здесь я уже говорю только о Тебе), не доказали Тебе, что моя любовь к Тебе — истинная, что никогда не лгал я Тебе, говоря: «Люблю». Если только Тебе нужна моя любовь, теперь Ты можешь ее брать без колебаний, в уверенности, что не ошибешься, что не возьмешь змеи вместо рыбы. И если что-либо в моей любви кажется Тебе, казалось странным, теперь это не заставит Тебя усомниться в существе самой любви, а лишь придаст ей тот или иной оттенок. Мне кажется, что я — испытание, поставленное нам, вынес с достоинством, что я своей души и моей любви к Тебе не унизил ни изменой, ни коварством. Мне кажется, что этими месяцами, всей моей жизнью в эти дни, всеми моими письмами, этим письмом, наконец, доказал, что люблю Тебя.