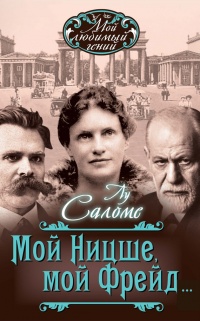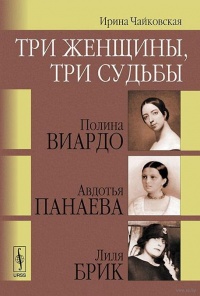Книга Три фурии времен минувших. Хроники страсти и бунта. Лу Андреас-Саломе, Нина Петровская, Лиля Брик - Игорь Талалаевский
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Милый Валерий, я говорю с тобой просто, совсем искренно. Вы укрылись в уют и тепло Ваших семейных очагов, Вы отрицаете, но это так. Ведь не покинешь ты жену, а Сережа Л. Д. (Рындину, вторую жену С.А.Соколова. — И. Т.)? Никогда, ни за что! О, это я узнала наверно. Почему же я до конца дней моих должна скитаться по свету как бездомная собака? Почему мне ты предлагаешь вечное одиночество, почему преступно найти и мне свою «ласковую донну», узнав, что Беатриче на земле для меня более не существует? Я очень, очень устала. Я не ищу больше «цветов зла», распятий и огненных мук. Мне нужно, чтобы кто-то меня нежно и тихо любил. Когда ты сказал о «постели», ты обидел меня. Разве это важно? Разве ты?… И наконец, неужели ты думаешь, что этого одного я хочу от Робера?
Но я не знаю ничего! Может быть, я приеду к тебе в Петербург и тихая картинка мертвенно потускнеет и исчезнет вдали. Может быть, я скажу: «Вот мои плечи, вот следы, они еще не зажили, но только этого я хочу на свете». Валерий, дорогой мой! ты вновь нежен со мной!.. Никогда ты не писал мне таких милых ласковых писем… Зверочек мой, мне хочется только один раз поцеловать тебя! Я устала ждать нашей встречи! Может быть, уже я не сумею обнять тебя, как прежде. Из всех дней, из всех ночей самой яркой у меня осталась в памяти одна, — там, на мокрой граве около сонного монастыря. Никогда в жизни я не испытывала такого сладкого, безумного, блаженного упоения болью, и никогда не был ты ближе, желаннее и недосягаемее. Мне бы хотелось хоть раз, хоть перед смертью испытать опять всю полноту этих острых огненных чувств с тобой. Но как страшно, страшно поехать к тебе! Напиши мне все же подробно, когда бы ты мог быть свободен?..
Ах, сегодня грустный вечер. Я очень, очень хвораю. Как-нибудь дотянуться бы до весны, совсем по-«поярковски» хочется солнца и цветов. Болезнь все туманит, — я худею, не сплю, артрит все сильнее, особенно эти дни, почти как в Бресте. Одно смешное утешение — этой же болезнью и в такой же степени болен Robert. Эти дни он меня лечил без доктора теми лекарствами, которые сам принимает, — стало немного лучше.
Не сердись на меня, не упрекай меня! Если бы не Robert с его нежной и беспредельной любовью, я провела бы еще больше горьких и одиноких часов. Мексиканцы и испанцы хороши, когда я в большой шляпе за столиком кафэ. Утешаюсь одним пустяком еще — никто меня здесь не принимает за русскую, и я, кажется, скоро отрекусь от своей родины. Я упомянула «испанцы», — познакомилась с одним — очень красив (певец), голубые глаза, идеальные черты, но глуп. Целый вечер накануне «нашего» нового года просил меня о свидании, a Robert рыдал, и слезы его падали в стакан виски. Знакомая картина! Точно видела себя в зеркале. Все это пустяки! Из этой области могла бы рассказать тебе много, но ведь тебе не интересно. Не упрекай меня! Я не могу начать без тебя «прекрасной жизни» — всё со мной, все я сберегла в глубине моей души, но без тебя не могу, не могу ничего. Самое большее — это затихнуть, замереть около «ласковой донны», — точно лежишь на тихом темном дне, точно кто-то ласкает после смерти, так неотчетливы, туманны и немы чувства… А может быть, мы увидимся? Может быть, преступно мечтать о покое на берегу океана? Может быть, ничего этого я не хочу?! Целую твои руки, нежно и покорно, как прежде. Я люблю тебя, милый.
Брюсов — Нине. 31 декабря 1908 / 13 января 1909 г. Москва.
…В моих последних письмах я, кажется, ошибался. Я представлял себе Тебя той, какою Ты была в Москве, со мной. Я говорил к тем чувствам, к тем страстям, которые тогда жили в Твоей душе, владели ею. Теперь вижу, что Ты уже иная; между строк, сквозь прежние слова угадываю Твою новую рождающуюся душу. Делаю все усилия, чтобы говорить к ней.
То, о чем стоит думать, о чем должно думать, это — Твое будущее. Не сегодняшний день, не то или иное Твое «безумие» этого дня, — а устроение всей Твоей жизни, ее цель. Ибо, как Ты сама созналась, какая-либо «трагическая» развязка уже исключена из возможностей. Смерть, убийство и все близкое к этому — уже прошлое. Ты еще долго будешь возить с собой по разным странам браунинг, подаренный Тебе в наши знаменательные дни С.А. (Соколовым. — И. Т.), — но этот браунинг уже только символ. Смысла жизни надо искать вне такой, внешней трагедии. И этот смысл будущего сам собою определит смысл настоящего, укажет, научит, что делать, «как жить».
Когда-то была Тебе открыта другая трагичность, более истинная и более страшная. Ты могла осуществить тот идеал бесконечной Любви, над всем торжествующей, ничему не покоряющейся, — которому всегда молилась. Ты могла сделать из своей любви ко мне — подвиг. Наперекор мне, моим поступкам, всему миру, — Ты могла служить, свято и верно, этой своей любви. В этом была бы, конечно, великая мучительность, но и настоящее величие. Может быть, этот подвиг убил бы Тебя, но он тем же смертным острием должен был пронизать и меня. Таким отречением от себя во имя Любви Ты стала бы надо мной на высоту недосягаемую, и мне сейчас должно было бы не писать Тебе это письмо, но преклоняться пред Тобою ниц.
Эта трагедия не осуществилась также, и ее надо отстранить, как прекрасную возможность, о которой мечтают в поэмах, но которой не встречают в сей жизни… Пройдем же мимо, будем искать еще.
Ты мне отвечаешь в последнем письме на мой вопрос, что такое для Тебя Робер. Ты сравниваешь его с «ласковой донной» Дантэ и рассказываешь о его предложении уехать с ним этой весной куда-то в глушь Франции, в маленький городок Бретани, затеряться там с ним, затихнуть. Тебе кажется, судя по словам Твоего письма, что в такой жизни можешь Ты найти то счастие, о котором еще решаешься думать: счастие покоя, отдыха. Ты почти прямо говоришь, что хочешь такой жизни, такого конца своей жизни.
Что смею я сказать об этом новом Твоем идеале жизни, — я, который сознает себя причиной того Твоего изнеможения, той Твоей последней усталости, какие влекут Тебя в этот затон полумертвого покоя? Смею ли я сказать Тебе: «Нет, этого не должно!» - смею ли, если в ответ на Твой вопрос: «А Ты дашь ли мне все противоположное этому?» — я вновь только печально наклоню голову. Нет, конечно, не смею. Я должен сказать Тебе: «Нина, дорогая! Пересмотри еще раз, со всем напряжением внимания, свою душу. Спроси еще раз, со всей упорной настойчивостью свои чувства. Собери все свои силы, чтобы заглянуть в свое будущее». И если после этого Ты все же скажешь себе: «Да, я этого хочу», — мне останется одно: отречься от всех своих мечтаний, забыть себя до конца и сделать все, что я в силах, чтобы помочь Тебе осуществить этот план. Так должен буду я Тебе сказать и так должен буду я поступить.
Я не делаю для себя иллюзии из того, к чему должна будет привести Твоя попытка. Если она не удастся, Ты будешь вновь на том же месте, где сегодня, только еще более утомленная, еще более подавленная жизнью и еще более чужая мне. Если же Твоя попытка удастся, если Твоя жизнь с Робером устроится не как временный привал, но как что-то постоянное, — это будет Твоей духовной смертью. Ты говоришь, что в том уединенном городке «можно будет работать», но, конечно, сама понимаешь, что это — слова без содержания. Французской писательницей Ты никогда не станешь, сколько ни изучай французский язык; русской писательницей нельзя быть, живя в глуши французской провинции, отрезанной ото всех центров русской жизни. А вне писательства о какой другой «работе» можешь Ты говорить? Нет сомнения, что жизнь с Робером, постоянная жизнь, будет для Тебя медленной трясиной, в которой исчезнет все, что есть в Твоей душе высшего, лучшего, единственно-истинного…