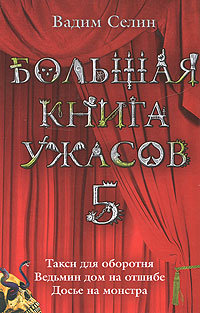Книга Девять братьев - Николай Чуковский
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Василий Степанович много времени проводил на улице. Ходил он не спеша, степенно, привлекая внимание прохожих своим ростом, тростью, шубой, бобровой шапкой.
Каждый день он несколько часов проводил в очереди за хлебом. Женщины, стоявшие вместе с ним в очереди, принимали его за профессора. Шепотом говорили друг другу, что это крупный ученый, что его будто бы собирались увезти из города на самолете, что таких людей, как он, нужно особенно беречь и что он уезжать отказался наотрез: «Я, мол, свой родимый город в беде оставлять не хочу, другие ленинградцы терпят, вытерплю и я». Трудно сказать, слышал Василий Степанович эти разговоры или нет. По всей вероятности, слышал, но никогда не подтверждал их ни единым словом, хотя и не опровергал.
В очереди он держал себя со всеми просто и охотно беседовал. Все знали, что у него три карточки: одна – его собственная, другая – племянницы-сиротки, которую он взял к себе на воспитание, и третья – соседа, студента Аркадия Сенечкина, молодого человека, больного туберкулезом. О своем соседе он говорил особенно охотно. Все узнали, что живут они рядом, через площадку, и познакомились случайно, на лестнице. У Аркадия Сенечкина туберкулез начался еще до войны. Теперь Сенечкин, наверное, скоро умрет. Он уже не в силах выходить на улицу, и вот Василий Степанович сам стоит за него в очереди.
– А какой способный молодой человек! – вздыхал Василий Степанович. – Какие прекрасные стихи пишет!
Василия Степановича в очереди считали очень добрым человеком. Особенно убедились в его доброте и отзывчивости после того, как он на глазах у всех отдал свой дневной хлебный паек незнакомой женщине, упавшей от истощения посреди улицы. Об этом случае узнал весь район, и когда Василий Степанович проходил по своему кварталу, стуча тростью и блестя чисто вымытыми калошами, встречные приветливо поглядывали на него.
К Сенечкину захаживал он часто, иногда по нескольку раз в сутки. Сенечкин даже отдал ему ключ от своей квартиры, чтобы не ходить отворять.
В этот день Василий Степанович зашел к нему перед вечером.
– Это я, друг мой, я! – сказал он, открыв дверь ключом. Через холодную прихожую он вошел в узенькую комнату, окно которой было завешено одеялом. – Вы не спите? Я не разбудил вас?
При свете крохотного огонька на конце фитиля, засунутого в аптечную склянку, он видел лежавшего на кровати молодого человека с длинным заострившимся носом и спутанными светлыми, давно не стриженными волосами.
– Нет. Я почти не сплю последнее время, – сказал Сенечкин. – Почему вы теперь приходите ко мне только в сумерках или в темноте? Прошлый раз вы были у меня, по-моему, рано-рано утром, задолго до рассвета.
– Да ведь теперь почти все время темно, дни коротки, – сказал Василий Степанович. – Вот и выходит, что я бываю у вас только в темноте. Впрочем, я за последнее время тоже почти не сплю по ночам. Потерял ощущение времени. Возможно, я действительно иногда захожу к вам глухою ночью. Вот, получайте ваш хлеб. Не благодарите, друг мой, не благодарите. Это так естественно.
Он бережно протянул Сенечкину завернутый в обрывок газеты ломтик хлеба – сто двадцать пять граммов. Сенечкнн приподнялся в постели и протянул дрожащую руку. Это была страшная рука – длинная кость, обтянутая кожей, с утолщениями в суставах. Он взял ломтик, развернул и посмотрел на него. Потом вытащил из-под подушки перочинный нож и разрезал ломтик у себя на ладони на две совершенно равные части. Одну он сунул в рот, а другую, видимо, собирался отложить про запас. Но после короткой внутренней борьбы сунул в рот и вторую половину. Он ничего не ел со вчерашнего дня.
– Я принес вам немного картофельных очистков, – сказал Василий Степанович, подавая пакетик с вареной картофельной шелухой.
– Василий Степанович! Мне неловко… Вы себя обижаете…
– Бросьте, друг мой, бросьте, кушайте на здоровье. Мне приятнее поделиться с вами, чем съесть все самому. Врачи утверждают, что картофельная шелуха полезнее самой картошки. Ешьте и не смущайтесь…
Сенечкин с наслаждением глотал картофельную шелуху. Василий Степанович снял шубу, положил ее в кресло и присел на край кровати.
– У вас сегодня почти тепло. – Василий Степанович взглянул на железную печь, в черном раскрытом зеве которой слабо тлели листы бумаги. Эта печурка и скляночка с фитильком были заботливо принесены сюда осенью Василием Степановичем. – Что я вижу?! – воскликнул он, заметив опустевшую книжную полку. – Вы начали жечь свои книги!
– Да, жгу, – сказал Сенечкнн. – Просматриваю в последний раз, читаю самое любимое и швыряю в печку. Записи университетских лекций, учебники спалил уже давно. Я сжег старые журналы, романы, а книги стихов оставил напоследок. Я уже не могу ходить, Василий Степанович… Ждать осталось недолго. Я так и рассчитал, чтобы тепла и стихов мне хватило как раз до конца.
Два розовых пятнышка появились на его скулах. Свойственное чахоточным лихорадочное возбуждение внезапно овладело им. Он словно опьянел от еды, от разговора.
– Вы, кажется, новые стихи написали?
– Написал.
– А ну, прочтите. Я люблю ваши стихи.
– Это о Тихом океане, – сказал Сенечкин, возбуждаясь еще больше. – Какое прекрасное сочетание слов – Тихий океан! Я лежал и вдруг стал думать о Тихом океане. Какой он огромный, глубокий и теплый. Когда я был мальчиком, я много читал о путешествиях по Тихому океану – о капитане Куке, о Лаперузе. Так хотите послушать?
– Читайте, друг мой.
Сенечкин поднес к глазам лист бумаги.
– Укулеле – это, кажется, музыкальный инструмент тихоокеанских дикарей? – спросил Василий Степанович.
– Да. Полинезийцев.
– Хорошие стихи. Странные стихи. Из вас, друг мой, мог бы выйти настоящий поэт, если бы, конечно…
– Если бы у меня что-нибудь было впереди?