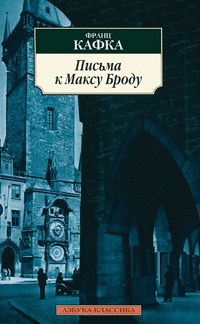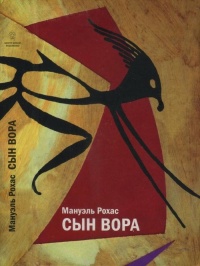Книга Птицы и гнезда. На Быстрянке. Смятение - Янка Брыль
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Анонимки… Бездушие тех, кто им верил. «Добрый день! Как живешь? Ай-ай-ай, как жаль, брат!..» Это — на устах у тех, что тайком марают жизнь «благонамеренными» писульками без подписи… Сколько их там было, в той зиминской папке?..
Идиотская жадность, с которой этот самый… панский благодетель таскал, что мог, с советских машин, брошенных при отступлении, таскал потом и с немецких, таскает, конечно, и из колхоза!..
Кулак, вооруженный мотоциклом, электрической лампочкой и радиоприемником, слепой, неблагодарный подлец, который, пользуясь благами социализма, не живет, а все ладится как-нибудь «пережить», «дожить», в надежде на ту магическую «перемену», что придет наконец на зов его обросшей щетиной души эгоиста, собственника…
Затаившись глубоко, он ото всех оторван, даже от сыновей, а живет и отравляет все вокруг…
— Ну, а как расплатился с тобой Щуровский за то, что ты посоветовал им сбежать в гарнизон?..
— Пойди и донеси на меня. Так и поверят, что это я, а не ты им сказал. А я расскажу пустячки. Про панские теплые ноги. Пожалеет тебя твоя эсбээмовка!
Затем раздался звук, похожий на тот, с каким упрямый дровосек опускает топор на сучковатый чурбак.
Один из них взвизгнул, как заяц, задрав ноги на мягкой земле, а потом, поняв, что это еще не конец, вскочил и, в тяжелых сапогах, побежал не по годам резво. Прямо в поле.
Другой, сделав несколько шагов по меже в ту сторону, где была деревня, почувствовал, что глаза его наполнились горячей влагой.
Обида. Горькая… На самого себя.
13
Звоночки-жаворонки угомонились в зеленях до утренней зари. Урчит за взгорком и светит фарами трактор. Кто-то, припозднившись, возвращается лугом и тревожит чуткого горюна чибиса, стон которого, отчаянный, красиво-печальный, накладывается на однообразный, но по-своему приятный и стройный лягушечий хор.
Длинное деревянное строение, покрытое шифером, снова полно звуков. Жуют крепкие челюсти, звенят кольца и цепочки обротей, фыркают мягкие, теплые храпы.
Нет покуда только Метелицы.
И старший конюх Хомич, явившийся на ночное дежурство, с удовольствием строит догадки, где может быть бригадир…
…Когда бригадир наконец подъехал к конюшне и, молча, легко приземлившись, стал не спеша снимать со своей быстроногой буланки седло, Мартын не выдержал:
— Здоров! Говорят, ты, браток, нашел вчера силосную яму?
Вместо ответа Леня протянул ему поводья:
— На!
Сам он понес седло.
Потом они вышли из теплой тьмы в прохладу под звездами, и Хомич, чтоб подойти с другой стороны, вспомнил:
— А сигареток я твоих не трогал. Держи!
Выспавшийся за день, да и вообще склонный побеседовать на любимую тему, Мартын снова стал подбираться к тому же:
— Поосторожнее бы тебе, браток, а то все без оглядки, как тетерев…
Леня молчит.
— Стоит ли из-за баб? Их, брат, нужно только оглаживать…
Ленины подошвы никак не могут оторваться от земли. Снова дохнуло ненавистью и угрозой — он вспомнил белобрысое, рябое лицо и, одолевая комок в горле, спросил:
— А что ты слышал?
— Оно, браток, холера его ведает, завсегда так: рыло спрячешь — хвост вылезет, хвост уберешь…
— Да говори ты как человек!
— Тебе — говори, а сам ты мне небось ни слова… Верка моя была у них, когда ты панский погреб смотрел да перед крыльцом выплясывал на седельце… Она там у пани какие-то польские тряпки покупала. Верка будет молчать. Я сказал. Ну, а возвращаться зорькою надо осторожней. Я как раз дома был…
— Прощай!
— Иди, браток, набегался за день с «козой» да натрясся в седле, коли ж еще и к той козе… Хе-хе-хе!
Это было сказано уже вслед.
…Леня шел тихим шагом, так как путь, к сожалению, был недалек. Усталости почти не чувствовал: впереди ожидало кое-что потяжелее… Даже шапку держал в руке и китель и ворот рубашки расстегнул…
«Как тяжко!.. Все теперь имеют право копаться в этой пошлости: и те, в гнилом, затхлом шляхетском гнезде, и этот… Ну, а сам ты кто? Он, Хомич, просто веселый бык. А ты — бык с психологией. Его и старость не берет, а вот ты — ты вздумал сейчас подправить свою чистую молодость?.. Сейчас еще дети встретят… Нет, сегодня, пожалуй, поздновато».
Дочка, Маруся, часто выходила ему навстречу, как будто бы только из-за маленького Сережи. Уже в седьмом классе, мать вот-вот догонит ростом, длиннокосая, голубоглазая серьезница… «Да, ты уже считаешь себя взрослой… И мне уже неловко, как раньше, смотреть на пригожих девчат, — я вспоминаю невольно, что ты, моя радость, кого я так недавно, кажется, боялся брать просто на руки, а брал на подушке, что ты становишься похожей на этих красавиц и что мне не хотелось бы, чтоб кто-нибудь глянул на тебя нечистым взглядом, с нечистым сердцем, без дружбы, без настоящей любви!..» А он, Сережка? Леня не подозревал, что сыном, мальчиком, можно не только гордиться, но и так нежно его любить, что и он, его мальчуган, будет ласков, как девочка. Как часто Сережка, если отец весь день был дома, все спрашивал и спрашивал: «Ты меня любишь? А я тебя очень, очень люблю!..»
Очисти меня, погладь своими, сынок, ручонками! Сними с моих глаз… Нет, лучше размахнись, собери всю силу, которая придет к тебе только потом, да тресни по поганой морде!.. Но ты не сделаешь ни того, ни другого!
Мысль… просто присказка вертится в голове: «Ведь жена не рукавица, с белой ручки не стряхнешь…» А мать, хорошая мать моих ненаглядных детей — об этом какую присказку выдумать?.. Нет, я не мог бы бросить ее, уйти из дому побитой собакой, женихом перезрелым таскаться по свету — в поисках того, что нелегко, а то и невозможно найти; начинать все сначала, перед самим собой прикидываться новеньким, свежим… Как я благодарен тебе, дорогая моя дуреха, мой лучший друг, ведь ты и тут, и теперь не поверишь никому, что я — такой негодяй! Как я благодарен и как мне тяжело!.. И правда: верь, я не вовсе подлец. Я… Ну а кто же я теперь?
А та, другая… что отодвинулась только, чтоб потом, в удобный момент, вернуться в душу беспокойным, волнующим воспоминанием?.. Как он все-таки сложен, человек!.. Не будь ханжою, Живень, — так очень легко снять с себя вину, плюнув на того, с кем грешил!.. Ведь и она человек… Хе, Живень, ты, выходит, еще и гуманист!.. А когда ты пробирался к ней по полю, ты что — человека в ней видел или что-то другое? Не так было тогда, в ту осень сорок третьего года, когда ты умел побороть в себе все низкое, когда ты шел к ней, как