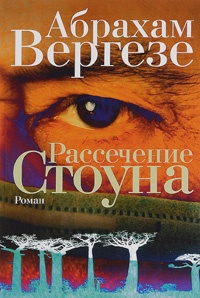Книга Живи и радуйся - Лев Трутнев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Стыд, не менее жгучий, чем только что испытанный ожег, залил мою душу безысходной горечью, какой-то особой тоской и жалостью. Опозоренная моя совесть до того взыграла, что я быстро скатился с дивана и с дрожью не только в руках, но и во всем теле начал напяливать штаны, рубашку, утопая в раскаяньи, остром упреке самому себе…
В темноте я не видел Нины, а лишь бесформенные складки одеяла серели на диване, неподвижные и немые, будто там, под ними, никого и не было, не горело только что исступляющим дурманом живое тело, не исходило сжигающим жаром, не билось в муках восторга. А может, это все приснилось мне от хмельной усталости и несусветной канители? Но откуда тогда эта сладкая дрожь, все еще сотрясающая все мое нутро, эти душевные терзания? Но тишина, темень, ни вздоха, ни слова?..
Почти бессознательно нашел я и сапоги, и куртку, и шапку и, словно получив доброго пинка под зад, вынырнул за двери, на крыльцо. Будто мягкой дубинкой саданул по хребту рванувший из-за угла ветер и погнал меня огородом внаклонку, враскаряку, обратно, к той же пугающей своей сутулостью баньке, к хозяйской ограде. Темнота вроде посерела, лучше стало видно разводы изгородей, дворов, крыш… Но ветер пронизывал легкую одежонку, и уже не зябко было, а холодно. Редкие снежинки запорхали перед глазами.
Как не сторожился я, открывая незапертые двери хозяйской избы, как не старался бесшумно раздеться, Вера явственно затопала где-то босыми ногами. Щелкнул выключатель, и свет залил прихожую. Значит, было уже утро – свет давали с шести часов.
– Натыркался? – недовольным голосом встретила мой покорный раскаявшийся взгляд Вера. – Надо предупреждать. Я всю ночь не спала – ушел и с концом, ни слуху ни духу. А вдруг что случилось?..
Слова ее корежили душу. Я стоял, понурясь, признавая ее правоту, но не мог словить нужных слов, чтобы ответить хозяйке. Тут еще Светка вынырнула кудлатой головкой из-за занавески, выпяливаясь на меня пуговками глаз.
– А ну-ка иди спать! – прикрикнула на нее Вера…
И пока она отвлекалась, я бочком-бочком проскользнул в свою комнату и скукожился на матрасике под холодным одеяльцем с таким пакостным состоянием души, что любые светлые мысли не в состоянии были пробить черноту этого переживания и гасли, как гаснут яркие искры костра в ночном небе.
– И та тоже связалась, – все изливала свое недовольство Вера, – дай придет – я ее отчитаю…
И откуда у нее такая веская уверенность в своих подозрениях? Может, я сам же своим видом и поведением все выдал?..
Сон быстро стер все мои покаянные мысли и чувства и унес душу в иной, осветленный мир.
* * *
Нина пришла поздним утром, когда я еще спал, а проснувшись, долго лежал, прислушиваясь к воркованию женщин на кухне. Голоса их были ровные, добрые, без ноток каких-либо недовольств друг другом. И я лежал, стыдясь, не представляя, как показываться им на глаза. Но все разрядилось само собой: Вера пришла будить меня, пригласила к столу. За ее спиной я увидел Нину, как ни в чем не бывало спокойную, все с теми же веселыми, с кошачьей желтизной, золотистыми глазами, в кудряшках и новом платье.
Но за стол я с ними не сел, сославшись на то, что опаздываю на тренировку, и ушел к Виктору без завтрака…
Опять колошматили мы друг друга в меру доступного, тягались на перекладине, на руках, толкали гирю, и было нам жарко до мокроты в холодном сарайчике, и к концу тренировки я отяжелел, замяк ногами, скис до головокружения. Виктор, заметив мoe состояние, спросил:
– Чтой-то ты сегодня квелый? И резкость не та, и сила. Не выспался?
Я не сказал ему про свои ночные хождения, а лишь пожал плечами. И постылое чувство голода отвратно сжало желудок, выдавливая из него последние соки, и я бы с трудом добрался до дома, если бы тетя Римма в честь воскресенья не угостила меня супом и кашей…
Ни Веры, ни Нины в доме не было – ушли они в какое-то новое, особо ажиотажное, кино, как сообщил Толик, куда школьникам ход был заказан, и я сунулся в свой угол и заснул непробивным сном.
* * *
Еще и в школе я чувствовал себя вяловато, в непонятной печали, но через пару дней прошли мои покаяния перед самим собой, вновь потянуло меня в тот уют, в тот сердечный и телесный трепет, и очутился я поздним вечером у крыльца Нининого дома. И завязала меня та веревочка ни на одну и ни на две ночи, а ранний снег, так круто осевший на волглую землю, отрезал путь в родную деревню до установления санной дороги. И потекло суматошное, полубредовое время, в пыле и стыде, в блаженном угаре и крученой виноватости. Время, когда днями я казнил себя в угрызениях совести, клялся в том, что это последний раз, а вечерами не находил места ни в доме, ни на улице и несся как шальной к заветному крыльцу, в умопомрачительные объятья.
Недовольна была моими хождениями Вера, недоволен Виктор, хотя и не знавший про них, но заметивший мое ослабление в тренировках. Недовольны стали и некоторые учителя, когда отметки пошатнулись на понижение. И в один из вечеров Вера сказала мне глуховатым голосом:
– Рано тебе, Леня, бабам подолы задирать. Испортишь себя – потом жалеть будешь. Ей, кобыле, двадцать один год – только подавай, а ты еще не дозрел…
Простые ее слова запали в душу – нет-нет да и натягивались думки о добром предостережении. Кто знает, а вдруг действительно моему растущему организму это мужевание вредно? На что-то повлияет, что-то изменит? Недаром колотун все жилки треплет и сполохи сжигают разум. Не съест ли все это мои плотские силы еще не окрепшие, как следует, схожие с молодой травой, которая не редко сгорает под палящим солнцем. Вдруг еще и в школе узнают, дома?.. Мысли эти давили и гнули, и неизвестно, в какую бы сторону я свалился в своих поступках, если бы не помешали каникулы, короткие, но все в иных охватах: дома, с родными, с друзьями, с милыми сердцу привычками.
6
В праздники сошлись вечерки в доме Лизы Клочковой. Родители ее ушли гостить в соседнюю деревню, а двое братьев-подростков залегли на печке.
Набилось нашей ровни на все лавки. Даже стол вынесли в горницу. Лиза верховодила на правах хозяйки и все мостилась мне на колени по праву игры и при случае. Горячие ее ляжки высластивали дрожь, хотя и не сравнимую с той, что свивала меня в объятиях Нины, но того же ключа, тех же истоков. И никогда до этого не возникали у меня шалые мысли, а тут вдруг поманила взгляд темная горница распахом широких дверей, а в ней представилась перинная кровать с горкой подушек, в которых можно утонуть вдвоем с Лизой после того, как все разойдутся. Но одно дело побаловать с женщиной, а другое – с девушкой. Тут судьбу на кон ставишь, а она не меньше жизни ценится. Об этом и дед говорил. Время, хотя и не старинное, не домостроевское, а все можно заварить такую кашу, что и не расхлебать. Да и как быть с совестью?.. Так что гори не гори, пускай слюну, зыркай глазами, а держи себя в уздечке, засупонься. И отогнал я от себя похотливый морок, но совладать с плотской тягой не мог и весь вечер горел щеками, как маков цвет. И все горели. Но была ли в том причина сродни моей или жаркая духота выкрасила молодые лица, особенно у девчат, угадать было не дано. Во всяком случае, едких шуток по этому поводу не слышалось, а в запале игры многое и не замечалось…