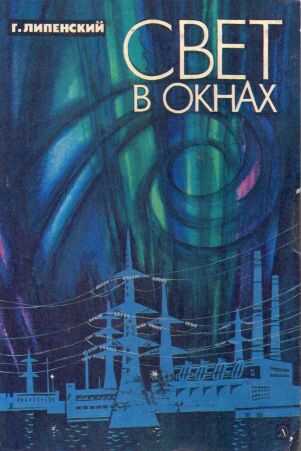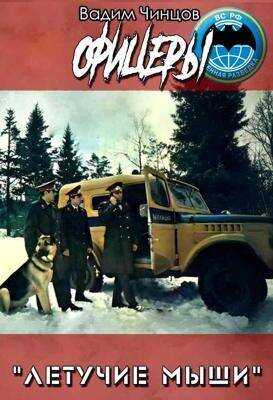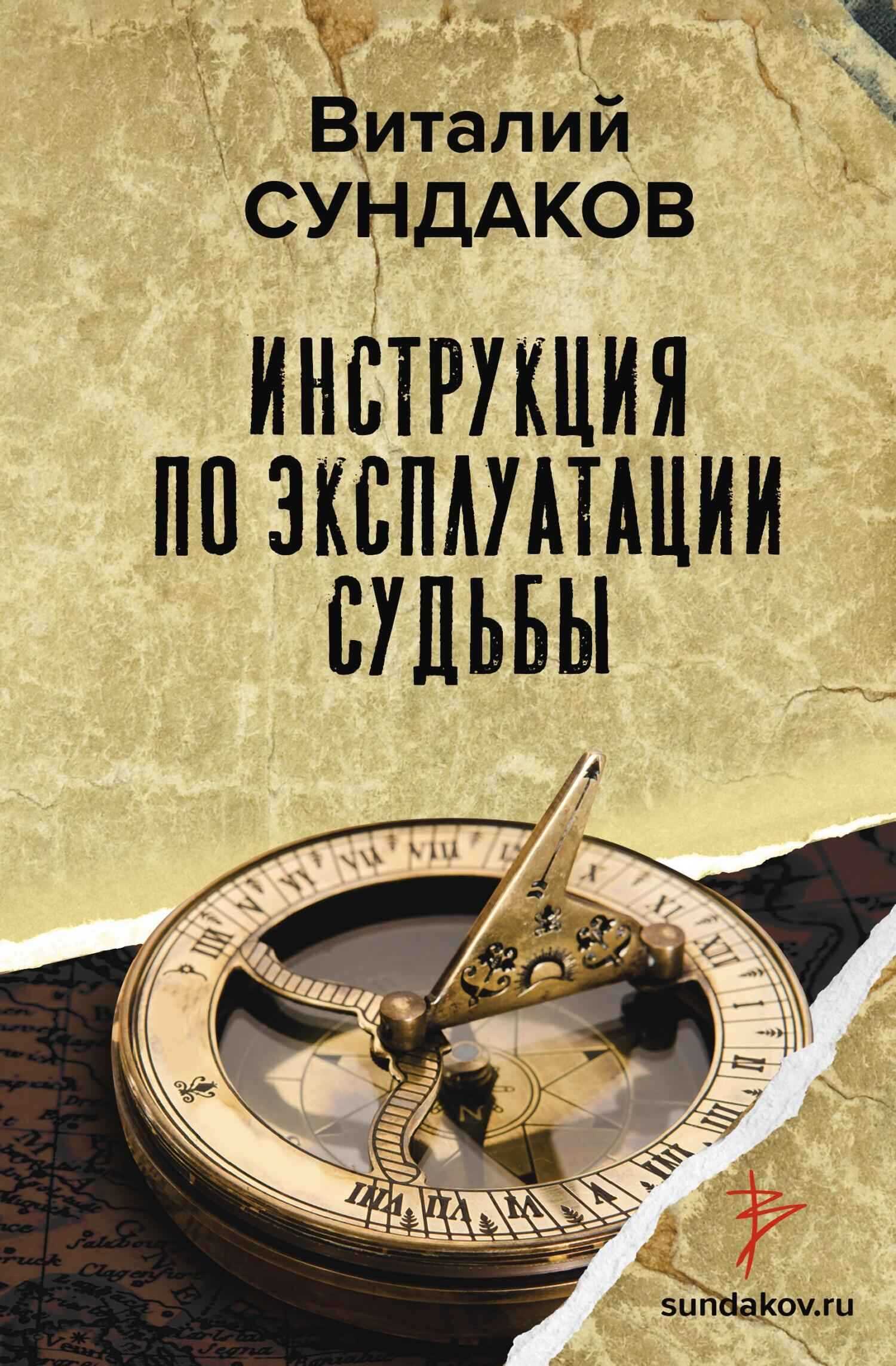Книга Двужильная Россия - Даниил Владимирович Фибих
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Я чувствовал, что Кузнецов смотрит теперь на меня как на балласт и – мужчина решительный – воспользуется любым поводом, чтобы выдворить меня из бригады, а КВЧ это санкционирует. Не поможет и присланный мамой меховой жилет, который я, в ущерб себе, поднес Мишке и который тот принял весьма благосклонно. Из актера я решил превратиться в хлебореза и сделал это, как оказалось, вполне своевременно.
Вскоре наша культбригада вообще прекратила свое существование. Лагерная администрация с некоторым запозданием решила, что это излишняя роскошь для заключенных. Кузнецов вернулся, выражаясь библейским языком, на блевотину свою. После как-то я видел его в соседнем бараке. Сидел Мишка среди уркаганов, свой в доску, совсем не такой, каким был он в бригаде, и азартно шлепал по столу грязными просаленными картами. Глаза лихорадочно блестели, наверно, от анаши – наркотика, который употребляют блатари. Меня не заметил.
Вскоре я узнал, что Кузнецов умер. От туберкулеза.
А ведь талантлив был. И, видимо, искренне хотел подняться с того дна, на которое бросила его жизнь.
Косинова некоторое время спустя отправили с этапом куда-то в спецлагерь на каторжные работы. Хертлейн и Катрель досрочно были освобождены и вернулись на родину, как и все находившиеся в советских лагерях военнопленные. Судьба остальных товарищей при культбригаде мне неизвестна.
А я сделался хлеборезом. Теперь у меня было двое подчиненных, двое подручных, которые, за добавочную пайку, помогали резать и вешать хлеб. Задолго до подъема, когда еще нависала морозная зимняя ночь и весь поселок спал, я уже копошился в своей маленькой, нетопленой, промерзшей каморке, при свете тусклой керосиновой лампочки, готовясь выдавать бригадам хлеб: нарезанные еще с вечера пайки лежали на полках стеллажей. Мы втроем резали их согласно представленным конторой спискам. Отказчикам полагалось 300 граммов, доходягам – 400, работягам – 500, 600 и даже 700 (о туфта!).
С момента подъема тесное помещение хлеборезки наполнялось народом. Приходили закутанные, свежо пахнущие морозом бригадиры с большими корзинами, толпились за барьером, стоял шум и галдеж. Я едва успевал выдавать заготовленные пайки. К семи часам хлеборезка пустела, на полках ничего уже не оставалось, и можно было, повесив на дверь большой тяжелый замок, отправиться к себе в барак досыпать.
Буханки я получал накануне вечером в хлебопекарне, которая находилась напротив – через площадь, – складывал на розвальни, и возчик-заключенный подвозил их к дверям хлеборезки. В пекарне было тепло и стоял упоительный запах горячего хлеба. Бухгалтер Ткаченко, Иван Петрович, всякий раз незаметно совал мне приготовленную заранее дополнительную пайку. Я не знаю, за что сидел этот тихий, молчаливый, ростом невеликий человек с лицом добрым и грустным, и никогда в разговоре с ним не затрагивал больной темы. Было такое впечатление, будто старается он сделаться как можно незаметней, не привлекать ничьего внимания. И жил обособленно, в отдельной кабине при пекарне.
Во время одной из утренних выдач хлеба я обнаружил недостачу целой буханки, которая лежала на одной из полок стеллажа, ближе к краю. Кто-то стащил, пока бригады получали свои пайки. Я объявил о пропаже толпившимся за деревянным барьером женщинам, и одна из них сказала, что только что встретила длинного парня в тулупе, который выскочил из хлеборезки и побежал, пряча что-то за пазухой. Я знал этого парня. Уголовник, вор. Не было никаких сомнений, что именно он стянул буханку.
На следующее утро, выдавая хлеб, я заметил торчащую позади, над теплыми платками баб, голову в облезлой раскрыленной ушанке. Парень, видно, решил повторить вчерашнее, вошел во вкус.
В молодые годы, когда я колебался, какую профессию выбрать – журналиста или киноактера, некоторое время пришлось мне заниматься в студии Пролеткино. Наряду с другими кинонауками обучали нас также приемам правильного мордобития. Те несколько уроков бокса, которые преподали нам в студии, впоследствии не раз выручали меня в жизни – и до ареста, когда приходилось иметь дело с хулиганами, и в особенности в лагере.
Увидев эту воровато прячущуюся за спинами раскрыленную ушанку, я, не говоря ни слова, растолкал собравшихся женщин, подошел к вору и нанес косой удар в челюсть. Правой рукой, левой, опять правой… Я выбил его за дверь, он повалился на снег, поднялся и бросился бежать.
Через день меня вызвали в тепло натопленную дежурку у ворот зоны, где собрался целый ареопаг надзирателей, человек пять-шесть. Сидели, дышали махрой.
– Что же это ты, Фибих, хулиганишь? – придав себе строгий вид, вопросил главный. – До того избил человека, что в больницу положили.
Это была ложь. Я видел, как резво убегал от меня вор, подобрав полы тулупа. Очевидно, потом он пожаловался начальству.
– Я жалею только, что мало ему дал. Надо бы покрепче, – ответил я. И рассказал, как было все дело. Ареопаг одобрил мои действия. На прощание мне было сказано:
– В следующий раз бей так, чтобы лбом дверь прошибал.
Живя среди неандертальцев, чтобы утвердить себя, я и действовать должен был по-неандертальски.
43
Однако защита собственными кулаками доверенных мне материальных ценностей практически ничего не дала. Внезапная ревизия хлеборезки обнаружила нехватку нескольких буханок. В наказание я был снят с работы.
Лично мне такая недостача хлеба была совершенно непонятна. Ведь только накануне вечером я сделал обычный подсчет принятого и отпущенного, и все было в ажуре.
Разгадка заключалась в том, как потом шепнули мне в зоне доброжелатели, что сторож, охранявший по ночам склады, подобрал ключ к замку и забрался в хлеборезку. Ну и что из того? Отвечать-то пришлось мне.
До весны, вплоть до полевых работ, я находился в зоне, откуда меня никуда не выпускали, и имел полную возможность наблюдать окружающую жизнь. Серая, убогая была жизнь. Валяясь в бараке на вагонке, я лениво прислушивался к озлобленной перебранке соседей – черт их знает из-за чего поругались.
– Шакал! – шипел один.
– Пират! – не оставался в долгу другой.
– Проститутки кусок!
Блатарь Романов (речь о нем впереди), развалясь с сапогами на койке, напевал вполголоса:
Завтра я одену майку голубую,
Завтра я одену брюки-клеш:
Две пути-дорожки, выбирай любую,
А из Карлага не уйдешь.
Он был прав. Невозможно было уйти из Карлага. Легче было бежать из северных сибирских и дальневосточных таежных лагерей, чем с этой голой и плоской, как блин, степной равнины, где пеший виден за километры, где беглецу совершенно негде спрятаться. Если забредет он, в поисках пищи, в попавшийся по пути казахский аул, его тут же схватят