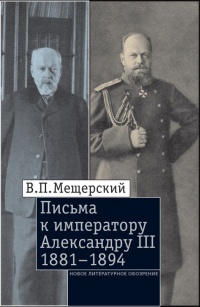Книга Победоносцев. Вернопреданный - Юрий Щеглов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Екатерина Александровна выражала всегда сугубо лйчное мнение, иногда не совпадавшее с мнением мужа:
— Пути реализации своего неудовольствия существующим положением молодые люди, которых Пален держит в заключении, нельзя признать ни законными, ни хоть в какой-то мере нормальными. По сути, в их идеях и критике содержится доля правды. Это не моя мысль: вспомни, что говорил Федор Михайлович при последнем нашем свидании.
Во время той давней беседы Константин Петрович тоже припомнил слова Достоевского, а сейчас, прислушиваясь к цокоту копыт жандармского патруля, проезжавшего по Литейному, подивился цепкой и избирательной памяти жены. Надо бы к ней в сию минуту подняться и сказать о том. Но он не вышел из-за стола, нынче совершенно пустого, и не поднялся к жене, а остался в кресле, по-прежнему прислушиваясь к грозным и одновременно успокаивающим звукам, доносящимся с проспекта.
— Я вот что полагаю, Катенька, — с усилием выговорил Константин Петрович, — прямо написать цесаревичу, что суд этот — дело очень нелегкое и небезопасное в нынешних обстоятельствах.
— Кстати, Достоевский, видимо, поддавшись везде распространяемому мнению, утверждал, что Среди социалистов много искренних молодых людей, что на всяческие безобразия их толкает грубость властей и агентов III отделения и что если бы не это, то многих ужасов можно было бы избежать.
Достоевский и по поводу процесса над Засулич выражал странное мнение: дескать, барышню можно было бы и освободить, строго предупредив, чтобы более подобных поступков не совершала.
— Мне жаль молодые жизни, так глупо растрачиваемые на дела, не ведущие к улучшению народного бытия. «Народная воля» — это вовсе не воля народа. Разве народ одобряет стрельбу и взрывы? Террор навязан русскому социуму, — мрачно произнес Достоевский. — Навязан!
— И тем не менее барышню надо освободить? — колко поинтересовался Константин Петрович.
— Надобно. Что ее, бедную, ждет в мертвых домах, разбросанных по всей Сибири? Женские отделения хуже мужских. Женщины часто безжалостнее мужчин.
Они оба выражали странные мнения. Еще до процесса над Засулич Константин Петрович решился изложить цесаревичу собственное видение ситуации.
Он не всегда умел скрывать и даже не всегда хотел скрывать суждения о сложных перипетиях происходящего при дворе и в государственных учреждениях. Он знал, что недруги, такие как Валуев, или позднее, такие как Половцов, а затем и Витте, ничего не простят и в каждом звуке, в каждом, иногда невольном, движении захотят увидеть подвох. Но он и раньше, в Москве, шел своей дорогой.
Константин Петрович не утешал наследника и сообщал на театр военных действий правду, как он ее понимал. Он обращал внимание власти на то, что свидетелей свозят со всех концов в Петербург, а это создает опасное неудобство для Зимнего. Позиция адвокатов ему была ясна. Они разогревали прессу. Газетиры тотчас начнут телеграфировать в Париж и Лондон, Берлин и Вену, распространяя всякую мерзость о России. «Не правда ли, совсем ослепленное или совсем безумное и неспособное правительство может возбудить такой процесс в такое время!» — писал наставник сыну главы государства, который и сформировал это самое правительство. Министр юстиции императора, изобретателя и автора Великих реформ, привлек много глупцов, ставших виновниками страшного раздражения: «…Вообще такой суд к добру привесть не может».
Где же здесь злоба, в которой его потом упрекали? Где здесь непреклонность и неуступчивость?
Но что же делать? Как поступить с заблудшими? Достоевский считал, что жестокость лишь порождает жестокость.
Сегодня, уже в отставке, оглядываясь назад, Константин Петрович почему-то ясно припомнил прежний разговор с никчемным Паленом. Действительно, разве оправданная на процессе Якимова прекратила преступную деятельность? Отнюдь! Вошла, чертовка, в террористическую группу «Свобода или смерть». Каково? Участвовала в покушении на государя под Александровском и Одессой. Пользуясь фальшивой фамилией Кобозева, делала подкоп, после смертоубийства бежала в Киев. Получила смертный приговор — пожалели: заменили бессрочной каторгой. За год до нового века отпустили с каторги по манифесту. И что же? Угомонилась ли она? Ничуть! За три месяца до отставки Якимову арестовали в Орехове-Зуеве: бежала из ссылки! Зачем? Продолжить борьбу за освобождение рабочего класса! Применима ли мысль Достоевского к нашим сторонникам террора?
Жена позвала пить чай. Он сел за стол, протянул руку к серебряному подстаканнику и на какое-то время замер:
— И все же, Катенька, я тогда оказался прав. Жестокость действительно порождает жестокость. Я предлагал иной путь. Надо было создать комиссию, разобрать обвинения, многих выпустить… Да-да, многих! Другим зачесть срок в тюрьме. Отстранить Министерство юстиции от комиссии. В члены кооптировать только независимых юристов. Палена надо было урезонить. Он ведь ничего не понимал и боялся государя как огня.
— Последние слова, наверное, не стоит…
И Екатерина Александровна мягко взяла из руки Константина Петровича стакан и придвинула его поближе к мужу. Ее реплика долетела к нему из прошлого. Сейчас Екатерина Александровна: ничего не произнесла. Константин Петрович прикрыл веки и подумал, что его замучили вспоминания. Но как не вспоминать, когда процесс стал поворотным пунктом в противостоянии! Надо было дать им Прощение в такую минуту! Он тогда обратился к великому князю Константину Николаевичу насчет Потапова, но ничегошеньки не добился. Он предлагал иной путь! Предлагал! Виновных и подлежащих суду в камерах у Цепного моста остались бы единицы. А как Пален организовал сам процесс? Судьи не знали, что предпринять. Молодые люди шумели, смеялись, ругали правительство на все корки. Скандалы вспыхивали чуть ли не на каждом заседании. Бунтарей выдворяли из зала под аплодисменты. Они знали о несчастных трех штурмах Плевны, живо обсуждали потери в армии и распоряжения великого князя Николая Николаевича-старшего. Обозленный Пален на заседании в Зимнем воскликнул:
— Они не сочувствуют славянскому делу!
Кто бы говорил! Когда пришло известие, что Осман-паша захвачен и Плевна наконец-то пала, на скамье подсудимых газетиры не отмечали никакой радости. Бунтари вели себя, будто ничего не произошло. Между тем сорок пашей, две тысячи офицеров и более сорока тысяч солдат очутились в плену. Петербург ликовал! В театрах — демонстрации, везде патриотический подъем. «Боже, царя храни…» поют на улицах, в домах и учреждениях. Повсюду бурные восторги, слезы. На Невском у Гостиного Двора до глубокой ночи проводились торжественные молебны, только в зале суда по-прежнему неразбериха. Приговор постановили вынести в конце месяца. Ничего хорошего Константин Петрович не ожидал и оказался прав в своем предощущении. Первоприсутствующий особого присутствия Сената по делам о казанской демонстрации Карл Карлович Петерс огласил приговор, и весь мир узнал, что едва ли не половину подсудимых пришлось оправдать, как и предполагал Константин Петрович. На следующий день, 24 января 1878 года, грянул выстрел Засулич и бедный старик градоначальник, о котором распространяли, быть может, и справедливые слухи, что он нечист на руку, свалился как подкошенный.