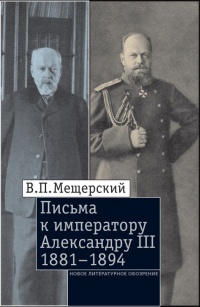Книга Победоносцев. Вернопреданный - Юрий Щеглов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Вот этот грандиозный финал затеянного Паленом и Потаповым процесса никто не помнит и до сих пор не понимает его значения, — сказал сурово Константин Петрович Саблеру в горький и опасный день, когда первый булыжник расколотил огромное зеркальное окно в кабинете.
Засулич добила не Трепова, а Палена, отправленного в отставку, и его следовало бы считать — пусть невольным, по глупости, — пособником террористов. В результате из компетенции суда присяжных были изъяты дела о насильственных действиях против властей. Мягкий приговор Засулич не повлек бы за собой подобной, далеко идущей меры. Молодых бунтарей теперь оставили один на один с прокурорами, устранив голос общественности. Разумно ли? Мысли о давних судилищах преследовали Константина Петровича постоянно.
— Это была настоящая Плевна — Плевна юридическая, — прибавил Саблер.
В упоении передавали из уст в уста, что во время оглашения приговора Войнаральский смеялся, а Ипполит Мышкин размахивал руками и что-то выкрикивал. С того момента внутри Константина Петровича, душевно и интеллектуально преданного континентальной и островной юриспруденции, что-то надломилось. Он потерял веру в мирный и благополучный исход захлестнувших Россию событий — даже каракозовщина не задела его так глубоко, даже покушение Соловьева, который стрелял в государя в упор. Достоевский чутьем писателя тоже предчувствовал, что вовсе не дьявольский, а, скорее, по-девичьи эмоциональный проступок барышни Засулич так просто не обойдется правительству. Надо было отыскать правильную линию поведения. Но кто способен ее выработать? Государь, чьи силы подорвали внешне победоносная война и чудовищная по своей откровенности и противозаконности любовная связь, от которой родились дети? Взращенные в петербургских чиновных инкубаторах холодные бюрократы вроде Валуева? Военный министр Милютин, гордо выступающий триумфатором по дворцовому паркету после падения Плевны? Князь Черкасский, его клеврет? Абаза, финансист и ловкач, впрочем, не без организаторских способностей? Великий князь Константин Николаевич? Безлюдье, безлюдье! Какое безлюдье! Но природа ведь не терпит пустоты. Вскоре обязательно должен появиться случайно затесавшийся в Петербург диктатор, который подхватит волочащиеся по мостовой вожжи. Вероятно, не русский по происхождению. Он-то и довершит разгром традиционной России, а затем навсегда покинет страну. Круг Великих реформ замкнется неудачной и неподготовленной попыткой ввести нечто отдаленно напоминающее конституционное правление.
Давным-давно, когда складывалась книга собственной жизни «Novum Regnum», Константину Петровичу попалось под руку — не могло не попасться! — письмо, писанное весной 1878 года после несчастного судебного эпизода с Засулич, и он перечел несколько строк, врезавшихся потом в память. Да и как им не врезаться! Прошлым летом измучила Плевна, а вот теперь другая Плевна. Плевна напомнила о Севастопольской обороне, Севастопольская оборона возвратила к Плевне. Сколько погублено русских жизней! А сколько смертей впереди! «Посмотрите, что вдруг открылось в нашем обществе, — мелким бисером на лист бумаги выплескивало перо Константина Петровича, — какая слепота, какое отсутствие серьезной мысли. Суд объявляет невиновной женщину, стрелявшую в градоначальника за то, что он поступил несправедливо в частном случае, — и общество радуется…»
Стоит обратить внимание на оценку поступка генерал-адъютанта Федора Федоровича Трепова. Подобная оценка не имеет ничего общего со слухами, которые циркулировали по поводу «неправедных прибытков» градоначальника и отношения государя к нему. Как правовед Константин Петрович отдавал себе отчет в произвольных действиях Трепова.
Продолжу цитирование: «…Женщины и мужчины готовы плакать, точно в конце драмы в Михайловском театре. Сентиментальное впечатление взяло верх над здравым смыслом».
Бывший шеф жандармов Потапов, близкий к помешательству, и неповоротливый бездарный Пален раздули громадное политическое дело в собственных корыстных целях и свезли в Петербург массу заключенных. «…Водворился беспорядок невозможный». Сам Трепов потерял голову. А что взять с потерявшего голову?
Характеристика этого трагического эпизода и противостояния различных сил и сегодня представляется достаточно серьезной и многосторонней. Константин Петрович правильно отмечал, что правительство и суд в страхе стали на сторону общественного суждения. С такой трактовкой события нельзя не согласиться. Масса бедствий последовала затем и оттого. Если бы суд и Александр Федорович Кони остались в правовом поле, а приговор лишь учел гражданские настроения, то из компетенции суда присяжных, повторяю, не были бы изъяты дела о насильственных действиях против властей. Кони не мог не понимать того. И кто знает, какие были бы последствия! Возможно, и «столыпинских галстуков» не существовало бы, и большевистских зверств тоже.
Перечитав письмо, Константин Петрович вложил его в папку, которая уже в советское окаянное время — вот парадокс истории! — и составила официально напечатанную книгу «Novum Regrum». В тот момент, я почти уверен, у него мелькнула мысль, как трудно исполнять свой долг и писать правду царям.
Ночью, когда не спалось, он иногда затевал с Юшкой Оболенским никчемные разговоры — никчемные потому, что утром становилось стыдно за пришедшие в голову мысли. Зачем человек создан? Юшка считал, что человек создан для счастья, а Константин Петрович утверждал, что для испытаний и служения Богу. Юшка сомневался в искренности Константина Петровича.
— Нет, счастье — вот цель жизни! Служение есть средство для достижения цели. Хорошо, верно служи — будешь счастлив.
Теперь, на склоне жизни, на ее совершенном исчерпе — опять это словцо! — Константину Петровичу частенько припоминались дискуссии с Юшкой, возвращая в действительно счастливые часы и дни юности. А был ли он счастлив потом? Наверное, был, и не раз. Впервые, по-настоящему, когда сладилось с Катенькой, когда он увидел ее радостные глаза. Судьба не одарила их брак детьми, а он, привыкший к большой и шумной семье, населявшей дом в Хлебном переулке, сильно страдал в тиши нарышкинского палаццо — ни родного детского смеха, ни проказливой возни, ни долгих бесед с докторами о, том, как лучше кормить и чем лечить весеннюю простуду. Весной, помнится, он частенько сам простужался, и мать отпаивала его малиной и медом. И все-таки в любви он был счастлив, хотя ее покой — покой любви — пытались нарушить сплетники.
Сейчас, когда Литейный затихал, очищаясь ночью от мерзкой толпы, странные мысли роились у него в голове. Месяцы падения оказались вместе с тем и месяцами невероятного взлета и осознания, что он был счастлив не только в домашнем кругу, рядом с Катей, но и в своем служении — в своем деле. Он окинул взором длинный ряд отлично переплетенных отчетов Святейшего синода, ощущая душевное удовлетворение содеянным. В них, в этих отчетах, его гигантский труд, которым нельзя не гордиться. Он всегда работал упорно, и в этом упорстве обретал сердечное спокойствие и равновесие. Они не покидали его, когда он отстаивал свою правду, которую без колебаний почитал правдой России. И в нынешние времена мы видим, что во многом он был прав. Однако нельзя не заметить, что правота его, резкая, дальновидная и своеобычная, не всегда угодна и сегодня потомкам, и они, возвращаясь к тому, к чему нельзя не возвратиться, многое опускают и по прежней привычке отбрасывают на второй план и не подвергают обсуждению. Например, вопрос о земле. Кому она должна принадлежать и кому она может принадлежать?