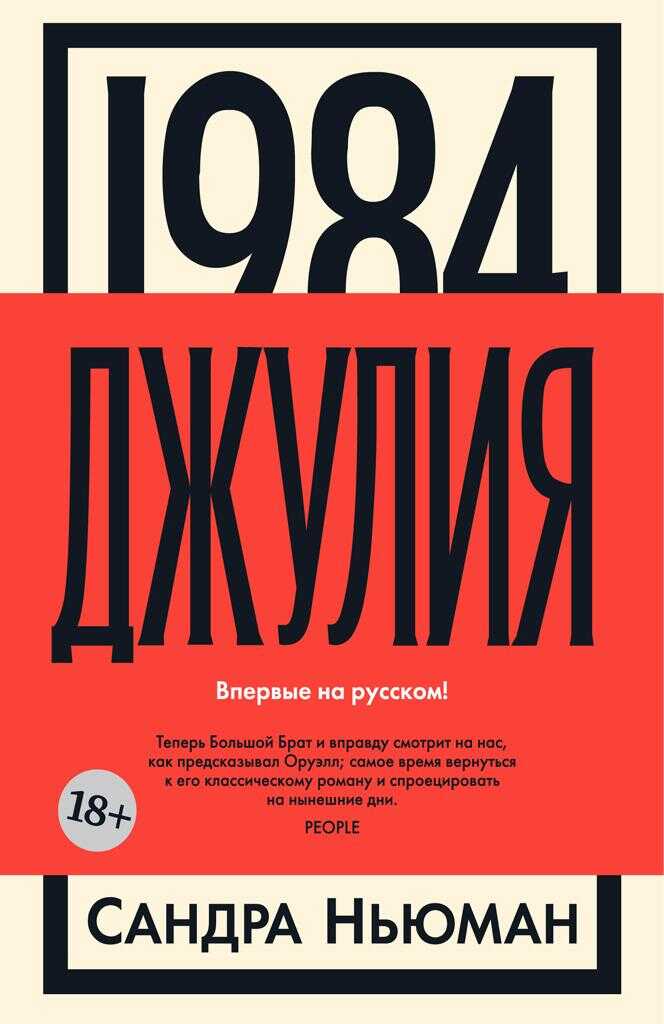Книга Русское: Реверберации - Никита Львович Елисеев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Вадим проснулся, но продолжал лежать, не открывая глаз; в каком-то уголке, дремлющем еще, теплилась наивная, детская, напрасная надежда, что это – тоже очередной сон, и если не открывать глаза, то можно будет проснуться окончательно. Сердце колотилось, резонируя стуком в висках, ресницы слиплись выдавленными этим новым, реальным ужасом слезами, и душа, конечно же, душа – что же еще могло так ныть – корчилась, с болью утесняясь в теле арестанта.
Начинался еще один совершенно лишний день новой, долгой, бесконечной, ненужной жизни. Жизнь эта уже гремела, била по ушам, окутывала вонью из завешенного матрасовкой угла, цеплялась за длинные ноги, которые вылезали из прохода между трехъярусными секциями коек («шконок» – с трудом переводил Вадим, так и не научившийся еще беглому употреблению слов этой своей жизни). Вадим сел на полу в проходе, где на ночь разворачивал свой вонючий матрац.
Прошло всего несколько минут после подъема, и в открытой «кормушке» все еще торчали, тесня друг друга, головы двух надзирателей («дубаков» – опять с запозданием перевел Вадим). На верхней шконке, ближайшей к окну, уткнув бледно-синее лицо в толстую решетку, вытягивая не выбритую, а выщипанную тонкую шею, камерный «петух» Танька бульчал жалобное «куреку» в толстенный железный лист, которым снаружи было заварено почти все окно. Танька хлопал себя руками по костистым бедрам и старался, напрягая жалкое морщинистое горло, но из воя и гогота, плотно заполнивших весь душный объем камеры, неслось: «Не так, не так», и потеха продолжалась. Не было разницы между разинутыми ртами арестантов и надзирателей, а уловив косящий Танькин ненавидящий взгляд, Вадим и вовсе отвернулся, опустил голову и прикрыл глаза. Не было ему никакого дела до всех этих людей, населяющих его нынешнюю жизнь, да и в жизни этой не было ему места, и ничего не отозвалось в нем ни на смех сокамерников, ни на Танькину ненависть: он отвернулся от чужого, чтобы не расплескалось без надобности все, что только вот… сейчас вот он пережил.
Между ним и реальностью сохранялась мягкая, не слишком проницаемая перегородка; иногда она становилась тонкой, почти прозрачной, иногда превращалась в совсем непробиваемую стену, и не волновало его совсем, когда из-за стены доносились нелестные эпитеты в его адрес, когда его окликали «заторможенный» или похуже, когда там за стеной сгущалось даже что-то враждебное, как несколько месяцев назад еще в подследственной камере, из-за треклятой этой обувки. Правда, при угрозе из-за стены, при вспышках ненависти перегородка истончалась и делалась прозрачной, но и в таком виде невероятно искривляла реальность, и Вадима охватывала паника – холодный ужас перекручивал живот, и ни следа не оставалось от его невозмутимости, от его отдельности ото всех, что как-то непостижимо утишало враждебность сокамерников – слишком уж извивался Вадим, слишком просто было его в такие минуты унизить. Впрочем, больших унижений, чем эти его извивания, причинить ему нельзя было, а изменить его камерный статус без определенной провинности, достаточно значительной для такого изменения, никто не решался, так как само такое изменение было уже достаточно значительной провинностью того, кто бы на это решился.
Вот в таком весьма неустойчивом равновесии и пребывал Вадим в нашей «девять-восемь», осужденке, рассчитанной тюремными проектировщиками на двадцать «мразей» (так они нас называют), перерассчитанной на тридцать (навариванием на двухъярусных шконках третьего яруса) и вмещающей сейчас вот шестьдесят пять преступников, вступающих в очередной день своей исправительной жизни.
Я по-прежнему лежал на своем месте, на самой верхотуре под яркой лампой, держа перед собой раскрытый расползающийся том Лескова, но уже не читал. Случайно перехваченный больной взгляд Вадима выбил меня из расслабленного благодушия еще одного спокойного дня. Загнанность и обреченность беззвучным воплем резанули душу, казалось, что его напрочь отвергающее все окружающее существо переместилось в мое тело и заныло, застучало кровью в висках, не умещаясь никак, не соглашаясь и не принимая того, что видели глаза, слышали уши, ощущали нос, язык, каждая клеточка…
Нет, не Вадимово существо переместилось в меня – мое собственное, забитое мною же в недвижность и глухоту, запечатанное до каких-то иных времен, сейчас неудержимо высвобождалось из крепких пут, наваливалось на тот крохотный огрызок меня, которым я здесь выживал и балансировал в своем иллюзорном равновесии… наваливалось и подминало, раздавливало потной на ощупь безысходностью.
Ни гроша не стоят мои снисходительные поглядывания на Вадима и на его неумелые метания в здешней жизни. Всей кожей отталкивается он от теперешнего своего существования, всеми остатками сил тянется к одному только: переползти эту черную дыру, эту тухлую яму, эту не-жизнь. Так и ползет, уже сейчас не желая видеть и слышать хриплые испарения сегодняшнего своего дня, не желая знать и помнить эти дни, надеясь на той стороне ямы плотненько сшить две половинки своей жизни, воображая, что никакой помехи не будет от незаметного шва, фантазируя, что даже память его вскриком боли не наткнется на уродливый шрам, – только бы переползти…
Ну а я сам? Зачем я тяну себя через эти