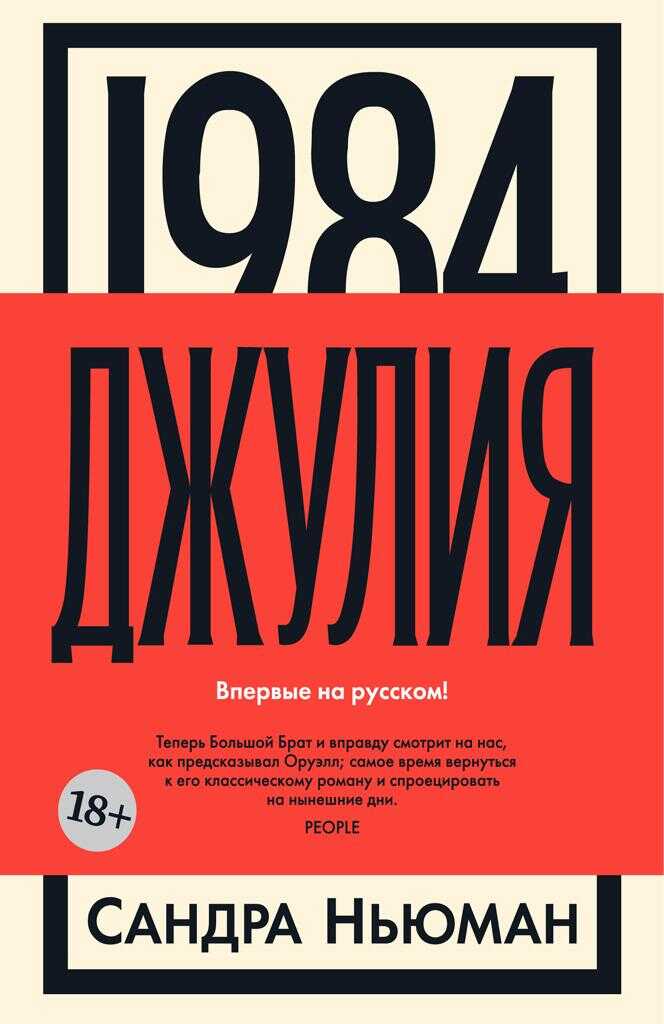Книга Русское: Реверберации - Никита Львович Елисеев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
49
Во сне. Нечто среднее между лужайкой и общественным садом в Кенсингтоне, с фонтаном или статуей посредине. В общем, скульптура. Современная, но не чересчур. Абстрактная, с большой дырой в центре и струнами поперек – как гитара, но менее женственная. Серого цвета. Похожие есть у Барбары Хепуорт. Но сделана из отброшенных мыслей и неоконченных фраз. Вроде кружева. С начертанным на цоколе: «Любимому пауку – благодарная паутина».
50
Стон балалайки, треск атмосферных разрядов. Рука вертит ручку настройки приемника с «глазком». Место действия: Москва, Россия, где-то между 1963 и 1988 годом. Опять балалайка, опять помехи. Потом первые такты «Лиллибуллеро» и честный женский голос: «Говорит всемирная служба Би-би-си. Передаем последние известия. Текст читает…» Наверное, ей за тридцать. Чисто вымытое лицо, почти без косметики. Шифоновая блузка. Белая. И кардиган. Скорее всего, бежевый – чай с молоком. Юбка тонкого сукна до колен. Черная или темно-синяя, как вечернее небо за окном. Или серая, но – до колен. До колен – до колен – до колен. И потом – комбинация.
Охохохохохо… В пустыне взорвали еще один «боинг». Пол Пот, Пномпень. Господин – неуловимая пауза – Мугабе. До колен. Главное – с кружевом. Хрупким и узорчатым, вроде иносказания. И с крошечными точками-цветочками. Никогда не видевшими света дня. И поэтому они такие беленькие. Ах, черт! Сианук, Пиночет, Руди Дучке. Чили, Чили, Чили, Чили. Бледные анютины глазки, совершенно задушенные прозрачными колготками из магазина в Ислингтоне. Вот до чего докатился мир. От поэтапного метода, от системы «тряпочка-кожа-резинка-бенц!» до «или – или» колготок. Детант, Сигинт [14], МБР. Новые трюки, только собака состарилась. Для новых, конечно; но и старые забываются. Да, похоже на то… И, скорее всего, здесь и закончишь свои дни. Жалко. Ну, всех не одолеешь. Еще виски, да? «Повторяем краткую сводку…» Да, наверное, свои тридцать, и полная. И вообще пора ужинать. Древен был Мафусаил, но подснежники любил. Древен был Мафусаил… Самое главное в этой жизни – чтоб паутина пережила паука. Как там у этого – как его? – Тютчева! Тютчев его зовут! Как это у него…
Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется —
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать…
– Dushin’ka! Dushin’ka! Что у нас на ужин?
– Ах, дарлинг, я подумала: давай сегодня поужинаем по-английски. Вареное мясо.
1991
Наум Ним
До петушиного крика
Повесть
Вадим стоял в плотной толпе перед сплошной решеткой, ощущая с брезгливым отвращением залипшую потную рубаху и прикосновение чужих разгоряченных тел. Перед ним, за второй решеткой, бесновались обезьяны, которым наплевать было на расплавляющее землю солнце, на многолюдную толпу и даже друг на друга. Обезьяний визгливый гомон сливался с лающим хохотом перед клеткой и никуда не уходил, отталкивался и небом, и землей, оставаясь тут же, в резком запахе истекающих потом обезьян и совсем недалеко, за двойную решетку только, ушедших от них потомков. Сами эти ржавые решетки так напоминали Вадиму что-то невероятное, до тошноты неправильное, что он попятился, но мохнатые руки цеплялись за его кремовую рубашку, не давая выбраться из толпы. «Позвольте… Извините», – лепетал Вадим, дотрагиваясь, протискиваясь, проталкивая себя прочь, а перед ним раздвигались, но тут же хватали его сзади волосатые пальцы, и, обернувшись, с уже останавливающимся дыханием, он видел только огромные оскаленные зубы на обезьяньих мордах. Ослабели ноги, стучало в висках. На последнем усилии Вадим обнаружил, что он выбирается не туда – решетка была впереди, а он внутри клетки, и вообще со всех сторон частоколом – решетки, и везде носятся разномастные обезьяны – большинство в платьях и костюмах, но есть и одетые только в собственную шерсть. Внезапная тишина заставила Вадима посмотреть туда, в вольер неодетых: беззвучно разевал пасть тощий самец, пытаясь встать с переломившейся доски. В изломе защемились его причиндалы, и с каждым рывком затягивался случайный капкан. В уши выстрелил пронзительный вопль, тонкой иглой прошедший через хохотогам роняющих слюну распахнутых ртов. От этого включенного вдруг звука сердце Вадима ухнуло в бездонную яму, ноги подкосились, и он бы упал, если бы не ветка, в которую он успел вцепиться, и увидел тут же, что из кремового манжета – его манжета – высовывается мохнатая цепкая обезьянья лапа – его лапа, а на ветке сидит вылинявший какой-то петух с очень скорбным лицом, знакомым каким-то лицом, и неуверенно говорит «куреку», заискивающе вглядываясь в Вадима. И себя всего увидел Вадим петушачьим взглядом: оскаленная затравленная волосатая морда, выпирающая из кремового воротника густая шерсть и крик – именно увиденный крик, – выхлестывающий из его чужого тела и забиваемый всем окружающим ужасом обратно внутрь. Уже на черте смертельного безумия Вадим услыхал отдаленный железный лязг и увидел Свету, отпирающую маленькую калитку в огромной – до неба – решетке…
Вадим проснулся от грохнувшей дверцы автомобиля. Он лежал в духоте красного своего жигуленка, и каждым толчком крови изгонялся из тела ужас сновидения. В окошко било слепящее солнце, и Светкины волосы вспыхивали короной, которую она осторожно несла к реке, неуверенно раздвигая высокую траву. Вадим понимал, что надо бы встать или, по крайней мере, открыть окно – сиденья автомобиля были влажными и липкими, и все тело его было липким от духоты и пережитого страха; надо бы встать, тем более что оттуда, куда скользила тоненькая и голенькая Света, доносился плеск, мужской гомон, раздраженное бормотание; надо бы встать, но не было сил пошевелиться, и лучше было сразу представить, как сейчас вот вернется эта голенькая его случайная находка и можно будет прижаться к прохладному в речных блестках телу… Но сначала она принесет воду, глоток холодной воды, а потом уж скользнет к нему, приникнет прохладным ручейком, вымывая остатки всех ужасов, подрагивающих еще где-то в желудке. И хорошо бы еще убрать солнце, острой болью вламывающееся через веки в тяжелую голову, хорошо бы – ночь, и чтобы голосов и возни этой плескающейся не было. Крохотный уголок разложенного сиденья темнел в тени, и Вадим перевалил туда голову, видя теперь одним только глазом яркую зелень утра за окном. Где-то в этой зелени затерялась тоненькая