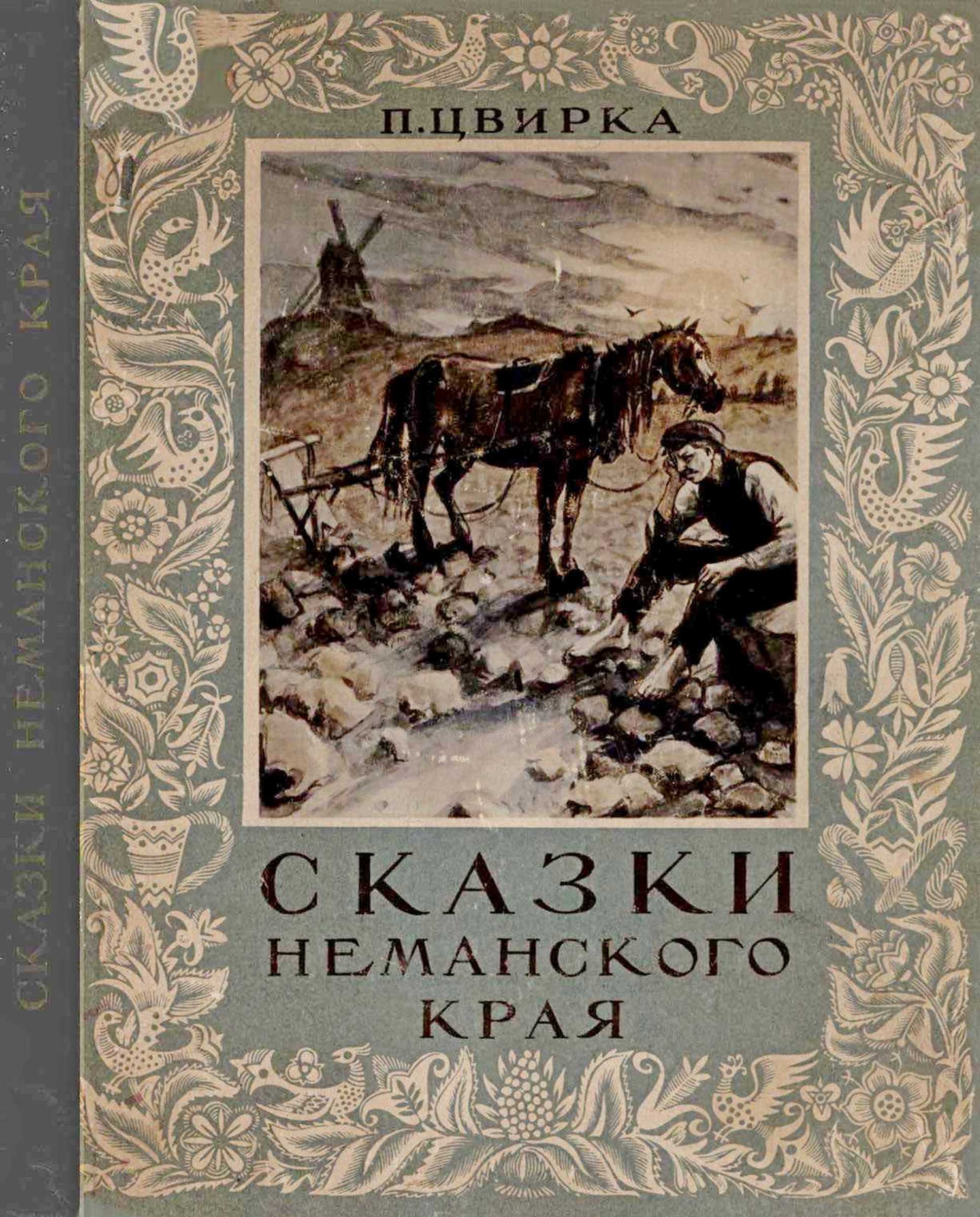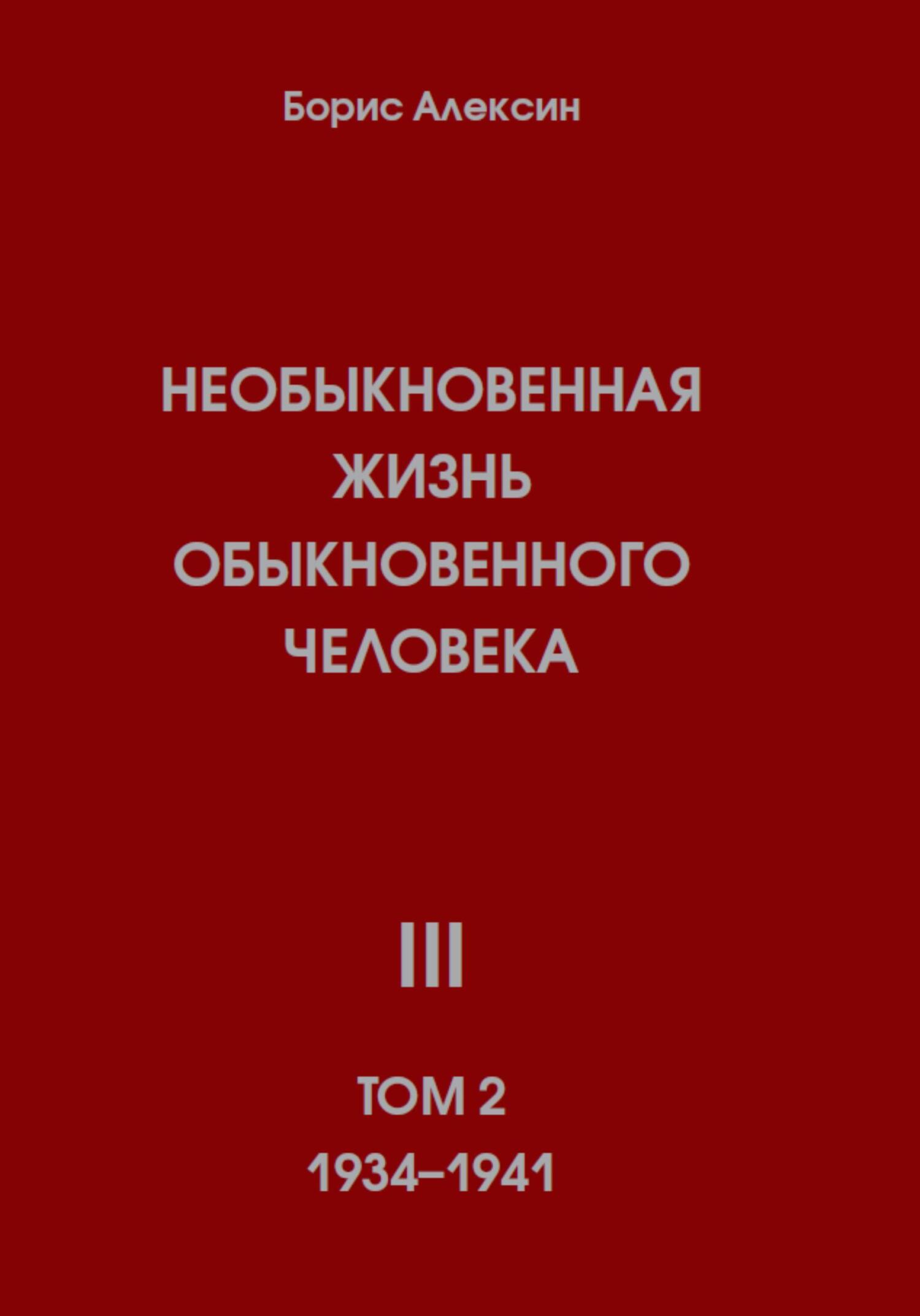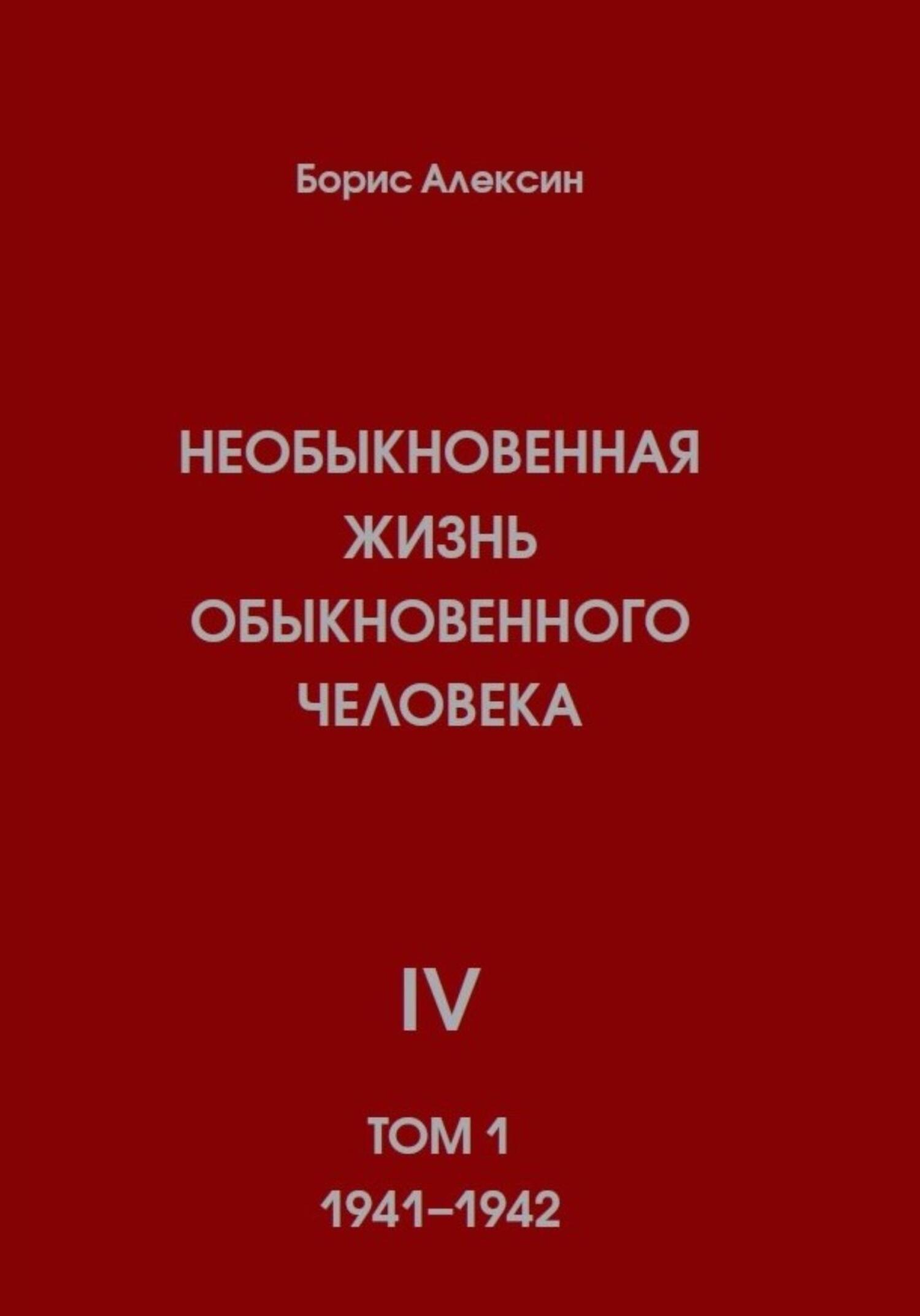Книга Крутые перевалы - Семен Яковлевич Побережник
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Меня взяла такая досада, я так рассвирепел (не знаю на кого), что решил на ходу спрыгнуть с поезда. Не помня себя, схватился с места, побежал в тамбур. Хочу открыть дверцу, но Стась не пускает. Я отталкиваю его, рывком распахиваю дверцу, лезу на самую нижнюю ступеньку, держась за поручни, бросаю сверток, а за ним прыгаю вниз под откос. Несколько раз перевернулся, встал, отряхнулся от пыли. Кости вроде целы, легко только ушибся. Побрел назад вдоль полотна. Нашел сверток и зашагал дальше. Когда приплелся на станцию, где мы купили билеты, уже стемнело. На скамейке сидит и скучает человек. Подхожу ближе — Стась. Что за наважденье! Он обрадовался, увидев меня невредимым. Оказывается, поляк на ближайшем полустанке пересел на встречный поезд и вернулся назад.
Так закончилась наша первая попытка двинуться на восток. Но мы все же не оставили мысли туда добраться. Однако нужно было экономить и без того скудные средства, поэтому решили пока дойти пешком до ближайшей провинции Саскачеван и попытаться устроиться там на временную работу.
Фермер Галек. Ночлежка
В поселке Мельвиль этой провинции жил фермер Василь Галек. Это был медлительный в движениях, коренастый человек с короткой апоплексической шеей, со сросшимися на переносице бровями. Галек имел довольно обширное хозяйство. Мы и нанялись к нему батраками. Он оказался почти земляком. Разговорившись, узнали, что Галек выходец из Галиции, живет здесь уже более двадцати пяти лет. Имел семью. Сейчас остался один. Мы не стали расспрашивать почему. Раз сам не говорит, значит, не нужно.
Через месяц фермер рассчитал Стася, поскольку тот, по его мнению, не справлялся с делом. Все мои просьбы не увольнять поляка ничего не дали. Меня хозяин оставил до уборки урожая.
Я усердно работал на сенокосилке, на жнейке, потом на осенней вспашке. Галек был доволен мною и платил двадцать пять долларов в месяц. На еду ежедневно уходило центов семьдесят пять, так что мне оставалось совсем немного.
Когда полевые работы были закончены, Галек предложил остаться у него в хозяйстве.
— Если хочешь, оставайся. За еду, жилье и некоторую плату. Будешь пасти скот, доить коров, кормить птицу, убирать навоз...
У фермера было восемнадцать лошадей, двенадцать коров, свиньи, птица. Он выплачивал кредит за машины, проценты. Но какое мне дело до всего этого?
Не хотелось дальше батрачить у прижимистого земляка, который так низко ценил мой труд. Но что делать? Опять искать, ловить журавля в небесах? Бродяжничать в поисках куска хлеба? «У Галека, — размышлял я, — это хоть какая-нибудь «синица». По крайней мере буду сыт и крыша над головой». Я остался у него до зимы...
Списался с домом.
Уцелело одно из моих писем, отправленных в Клишковцы из Канады. В нем есть такие строки: «Здесь так же, как и в нашей Бессарабии, тяжело жить простому человеку. Доллар здесь хозяин. А добыть его рабочему человеку не так-то легко...»
Из дому получил в ответ довольно невеселое письмо. Тяжело совсем стало жить. Проценты на те деньги, что отец одолжил у соседей мне на дорогу, растут, рассчитаться пока нечем. Проходит день, а там, смотри, долг еще прибавился. Растет, правда, понемногу, но растет каждые сутки. Плохо!
В письме мне на всякий случай еще раз напомнили адреса односельчан и родственников, проживавших в Канаде и США, в городах Виндзоре и Детройте, советовали разыскать их, они, мол, помогут лучше устроиться, «и ты, Семка, не будешь так бедовать», — писал отец. Я задумался. «А что, если в самом деле двинуться хотя бы в Виндзор? Что, собственно, меня ждет у фермера с его коровами и свиньями? Убирать дальше навоз и пасти скот?»
Твердо решил добираться туда. Приобрел что-то вроде пальто, подбитое «рыбьим мехом». Купил дешевые брюки, шапку, спецовку. Заработанных денег почти не осталось. Но это меня уже не останавливало. Еще немного поработал и пустился в путь.
Не буду подробно описывать, как я добирался. Пришлось опять ехать «зайцем». Идут, например, составы, груженные канадским лесом, я незаметно забираюсь между досок и бревен и еду. Отмахал таким образом не одну сотню километров. Но случилась новая беда: простудился. Все тело покрылось чирьями, поднялась температура.
На одной большой станции я с трудом вылез из вагона и свалился. Меня подобрали, поместили в ночлежку. Сюда обычно поселяли разных бродяг, нищих, снятых с поездов, заболевших иммигрантов. Попал в эту разношерстную компанию и я.
Хозяйка ночлежки оказалась украинка. Сердобольная, чуткая к чужому несчастью женщина. Вот уж поистине свет не без добрых людей! Она ухаживала за мной, кормила — а я ведь не имел ни гроша за душой, — заботилась, как мать. Бесконечно благодарил я мою спасительницу. Клялся, что как только устроюсь, верну ей долг.
Немного окрепнув, написал письмо в Виндзор земляку Константину Яковлевичу Тимко. Сообщил ему, что я приехал из Клишковцев, фамилия моя такая-то, нахожусь в ночлежке из-за болезни, без всяких средств.
Вскоре на мое имя пришел пакет. С волнением вскрываю его, а там письмо и билет на поезд до Виндзора. Видимо, я так ослаб, что не мог сдержать слез.
Хозяйка радовалась за меня так, будто я ее сын, а не посторонний, чужой человек. Ласково, как ребенка, начала молча гладить по голове, вытирала набегавшие на ее глаза слезы...
Мне не терпелось отправиться в дорогу. И вот я опять в поезде. На этот раз уже еду легально, имея к тому же определенный маршрут. «Неужели скоро кончатся мои мытарства?»
Среди земляков
Дружелюбно встретил своего молодого земляка незнакомый мне Тимко, почти однофамилец моего деда. Он был низенького роста, кругленький, как бильярдный шар. Доходы ему приносила небольшая, но хорошо оборудованная парикмахерская с опытными мастерами, бильярдная, а также собственная квартира, которую он часто сдавал в наем под свадьбы...
Конечно, это не были золотые прииски Клондайка, но доллары все же тонкой струйкой текли в его карман. Он умел их ценить, проявлял во всем бережливость, которая порой граничила со скупостью. «Кто скуп, тот не глуп», — часто повторял он эту поговорку, видимо, понравившуюся ему, поучая меня,